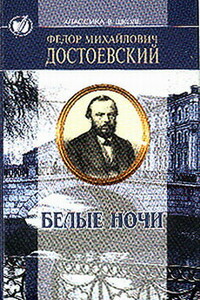| - Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... вот как от приятеля ворочу... - Он смутился и замолчал. |
| "Well, we will talk about it then, sir." | - Ну тогда и будем говорить, батюшка. |
| "Good-bye--are you always at home alone, your sister is not here with you?" He asked her as casually as possible as he went out into the passage. | - Прощайте-с... А вы все дома одни сидите, сестрицы-то нет? - спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю. |
| "What business is she of yours, my good sir?" | - А вам какое до нее, батюшка, дело? |
| "Oh, nothing particular, I simply asked. | - Да ничего особенного. Я так спросил. |
| You are too quick.... | Уж вы сейчас... |
| Good-day, Alyona Ivanovna." | Прощайте, Алена Ивановна! |
| Raskolnikov went out in complete confusion. | Раскольников вышел в решительном смущении. |
| This confusion became more and more intense. | Смущение это все более увеличивалось. |
| As he went down the stairs, he even stopped short, two or three times, as though suddenly struck by some thought. | Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. |
| When he was in the street he cried out, | И наконец, уже на улице, он воскликнул: |
| "Oh, God, how loathsome it all is! and can I, can I possibly.... | "О боже! как это все отвратительно! |
| No, it's nonsense, it's rubbish!" he added resolutely. | И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! - прибавил он решительно. |
| "And how could such an atrocious thing come into my head? | - И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? |
| What filthy things my heart is capable of. | На какую грязь способно, однако, мое сердце! |
| Yes, filthy above all, disgusting, loathsome, loathsome!--and for a whole month I've been...." | Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц..." |
| But no words, no exclamations, could express his agitation. | Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. |
| The feeling of intense repulsion, which had begun to oppress and torture his heart while he was on his way to the old woman, had by now reached such a pitch and had taken such a definite form that he did not know what to do with himself to escape from his wretchedness. | Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. |