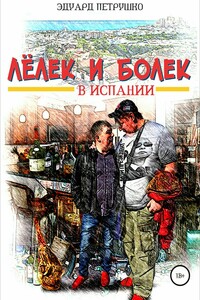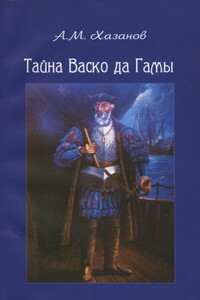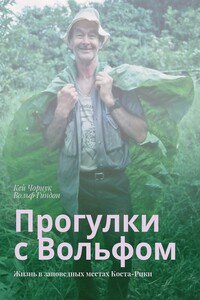Погружение разрешаю | страница 25
Научная группа занялась разбором коллекции, а команда стала готовить подводный аппарат к спуску. Было решено погрузиться на склон Большой Багамской банки, чтобы определить, до какой глубины распространяются мадрепоровые кораллы. Обычно считалось, что они проникают вглубь океана до нижней границы распространения света, поскольку в их тканях живут симбиотические микроводоросли – зооксантеллы. Водоросли без света жить не могут, значит, и кораллы тоже, поскольку кораллы частично питаются за счет этих водорослей. Но это в теории, а как на самом деле? Этот вопрос очень интересовал Аронова. Меня привлекала и другая, более масштабная задача: сравнить донные ландшафты у африканского и американского берегов, благо мое предыдущее погружение у мыса Кап-Блан и место планируемого погружения на Большой Багамской банке находились на одной и той же широте (20° с. ш.) и на одинаковых глубинах (90–205 м). Идеальный вариант для сравнительного анализа! Чем различаются донные ландшафты – «африканский» и «американский»? В каком секторе океана – западном или восточном – богаче донная фауна? Так я определил для себя вторую цель погружения, помимо той, которую поставил начальник рейса. Ни о каких таинственных явлениях перед погружением никто не думал.
«Тинро-2» достиг дна на глубине 205 метров. Как раз до такой глубины мы дошли на другой стороне Атлантики, у мыса Кап-Блан. Одного взгляда в иллюминатор мне было достаточно, чтобы понять: здесь совсем другой ландшафт. У американского континента дно океана представляло собой если не пустыню, то уж точно полупустыню. На дне не было видно ни полихет, ни офиур, ни нор моллюсков, ни морских ежей, ни голотурий. Беловато-кремовый «американский» песок разительно отличался от зеленовато-серого песка материкового склона Африки. По одному лишь цвету мне нетрудно было догадаться, что в песке Большой Багамской банки содержится намного меньше органических веществ, которыми питаются донные животные, а значит – должно быть меньше и самих животных. Лишь маленькие актинии да редкие группы раков-кузнецов попадались мне. Раков-кузнецов – странных существ с длинным, разделенным на сегменты телом и волосатой головой – легко можно было принять за веточки отмерших кораллов, если бы за ними не тянулись канавки – следы ползания этих животных.
Песок на склоне Большой Багамской банки хранил память о сильном придонном течении, которое оставило после себя знаки ряби – песчаные рифели. Я легко определил направление течения. На него указывал короткий и крутой склон песчаной ряби. Течение было направлено сверху вниз по склону банки. В тот момент, когда я рассматривал знаки ряби, течение почти не чувствовалось, но по мере нашего продвижения вверх по склону оно стало усиливаться. Я подумал, что течение могло быть вызвано приливом. Пятидесяти оборотов главного двигателя стало не хватать, чтобы справиться с течением. Я дал восемьдесят оборотов. «Тинро-2» медленно полз над пологим песчаным склоном. Вдоль дна неслась поземка из мелкого белого песка. Течение срывало песчинки с места и тащило их вниз по склону. На моих глазах песчаная рябь начала размываться и вместо ребристого, словно стиральная доска, грунта возникло совершенно гладкое дно, точь-в-точь как на материковом склоне Африки. В отношении скорости придонных течений оба района оказались похожими, но на этом сходство американского и африканского материковых склонов и заканчивалось.