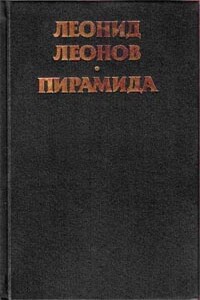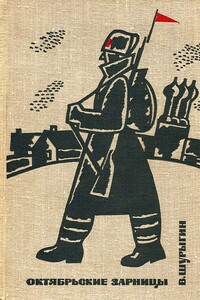Рассказы и повести | страница 76
Почесал Пигунок бороду: вот те и на! Рыбачки-и! Такой рыбачок подденет на крючок, — вертись!
И стало вдруг тоскливо Пигунку: все один да один, никого возле. Посетил было гость, и тот чертом оказался.
Схватил Пигунок бадейку да бежать. Кипит в нем досада ключам, катышом застилает глотку досада. Четко шлепают лапти по мокрой траве. Мелькнул знакомый пень, покатилось из-за него круглое в свалилось в овраг на самое дно, дребезжа водянистой кожей по сучкам. Знает Пигунок. В овраге — зелень, плюнь и перестанут. Зелень, — это не страшно: зелень — дыханье майских дерев, старых пней, прелой земли, тайных трав дух… А шалашик — вон он, светится в темноте лубяной крышей, как простыня на суку.
Подкрался в тишине к шалашику, видит: в мерцающем потуханье уголья от костра — чайничек как висел, так и висит — спит Долбун. Присмотрелся Пигунок — голый; поворчал в бороду — у, проклятух! Ножик точишь?! Блазь! Достал щучку, за хвост, на руку золы посыпал горстку, чтоб не скользнула, — размахнулся, ворча, — борода как парус надулась, — хлоп с маху щучкой Долбуна по спине!
Вскочил этот, глаза засверкали, зубы длинней оклычились: — Ты что, Яшк, хлестаться? Я тебе бороду спалю. Ты забыл, что я тебе говорил даве… Пыхтит Яков, отводит щучку назад, молчит. А Долбун вдруг тихим ребячьим голоском ему: — У тебя, дедушк, что в руке-то? — В руке-то?.. У меня-то?.. Щучка.
Как сказал Пигунок это слово, так и умчало этим словом блазну. Только издалека, тая в тишине, выплакала она жалостливо: — Эк ты, дедушк… Я к тебе всей душой, а ты ко мне всей спиной! Ты б меня Кирюшей, — я бы смирный был!.. Прорычал Пигунок: — У, тварюга. Погодь, часом доберусь до тебя…
Хрустели по рощам шаги выгнанной блазны.
Луна вскорости на небо вышла, — толстан, красная, на Столбуниху похожа.
Столбуниха! Это женщина?! Это не женщина, извините, а…
Гуляла луна по небесным пустырькам, май, уходя, соловьем свистел, зелень ползла в траве, ползла куда-то.
Эх, ползунки вы, ползунки! Береза плакучая!
«Гурмачи» лежали в туманах и спали, спали благородные цветы, спали две благородные канарейки, в парке спал голый мраморный арап, но генерал Васютин, Никанор Иванович, рвал и метал.
Он в бешенстве ходил по кабинету, испуская зловещие стоны. И это понятно станет каждому: у генерала Васютина болел зуб.
Было поздно. Генеральша видела конец четвертого сна. Столбуниха пыхтела, выхваляясь вверху всем своим неприличием. Свечи на столе оплыли, впрочем не столько от долгого горенья, сколько от нежного дуновения слабого ветерка, надувавшего занавеску, словно за ней чужая спина была. Ветерок тот блуждал по кабинету.