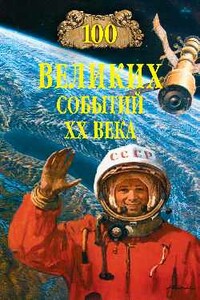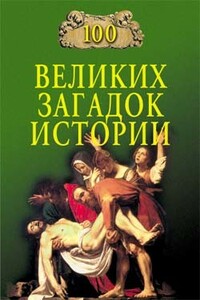Крым. 47 сюжетов о прошлом и будущем | страница 83
К этому списку отнесем и художественный фильм 1930 году «Кавказский пленник» (сценарий П. Щеголева и В. Мануйлова, к слову, крупнейших лермонтоведов, много сделавших для оправдания тех грубых несуразностей, которыми были переполнены фальшивки П.П. Вяземского).
Касаясь причин мистификации, П.С. Попов пришел к выводу, что П.П. Вяземский сочинял все это в состоянии нарастающего старческого маразма. Тем более недопустимы попытки оправдания, даже воспевания этой фальшивки, представляемой как этакий занятный розыгрыш, «остроумный ответ на разного рода измышления о Лермонтове», причем П.П. Вяземский встал-де «на защиту памяти» поэта (Курортная газета. 1972. 6 февр.). Вот уже 50 лет наука защищает М.Ю. Лермонтова от такого «остроумия» и такой «защиты памяти»!
В послевоенной краеведческой литературе установилась традиция вдумчивого освещения вопросов. Увы, есть и исключения. Вот одно из них: М.И. Ростовцев, «Волшебный край: Крымские зарисовки», издано в Москве в 1977 году. На с. 60 читаем: «О каменистом мысе Ай-Тодор, Гаспре и Мисхоре упоминает в путевых заметках А.С. Грибоедов. Незадолго до своей трагической гибели здесь побывал М.Ю. Лермонтов». Старая фальшивка вновь оживает! И где? К сожалению – в центральном издательстве, в «Просвещении», в «Пособии для учащихся»…
Каковы же действительные связи Михаила Юрьевича Лермонтова с Крымом? Их немного, но они есть.
Ступить на землю солнечного полуострова великому поэту не пришлось, хотя он и был совсем рядом – на Тамани. «Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик» («Герой нашего времени. Тамань»), Алфавитно-частотный словарь языка М.Ю. Лермонтова (Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981) показывает, что крымская лексика в словаре М. Ю. Лермонтова – ничтожна: «Крым» – 1, «крымец» – 1, «Керчь» – 1, «крымский» – 2, «Крым», «Керчь», «крымский» – в «Тамани», «крымец» – в «Вадиме». Таким образом, Крым не отражен в творчестве Михаила Юрьевича.
Особняком стоит в его поэзии одно «крымское» стихотворение, но это – лишь перевод: в 1838 году М.Ю. Лермонтов по подстрочнику перевел сонет А. Мицкевича «Вид гор из степей Козлова» (напечатан после гибели поэта в 1846 г.). Автограф перевода не сохранился. Стихотворение из цикла «Крымские сонеты». Это единственное обращение М.Ю. Лермонтова к поэзии Мицкевича. Внешние причины этого обращения связаны со службой поэта в лейб-гвардии Гродненском полку, командиром которого был тогда генерал М.Г. Хомутов. Поэт, посещая дом Хомутовых, узнал трогательную историю любви сестры генерала А. Г. Хомутовой к поэту И.И. Козлову. В 1838 году А.Г. Хомутова встретилась с И.И. Козловым после длительной (более двадцати лет) разлуки. Слепой, парализованный, тяжко больной поэт, глубоко взволнованный и потрясенный благородством и силой чувства, написал известное стихотворение «К другу весны моей после долгой, долгой разлуки».