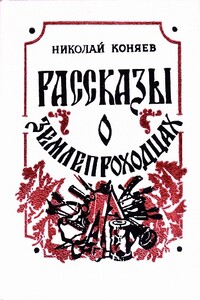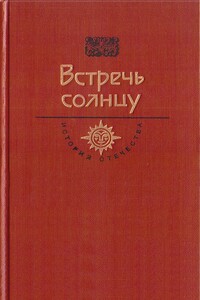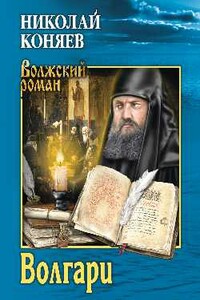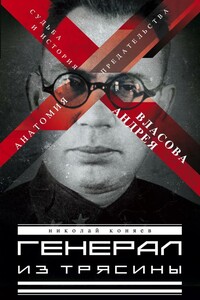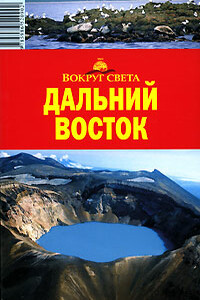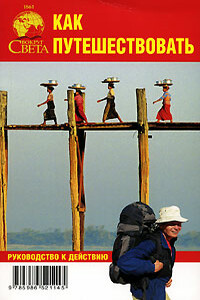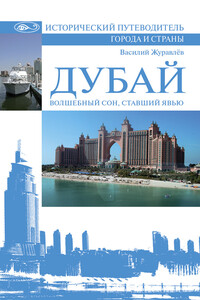Ангел над городом. Семь прогулок по православному Петербургу | страница 91
Об этом же и свидетельство Владимира Ивановича Даля, не отходившего последние часы от постели Пушкина:
«Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил».
Столь много людей находилось в последние дни в квартире Пушкиных, столько литераторов, что не оставалось не зафиксированным для потомков ни одного движения поэта, ни одного его слова и вздоха.
Поэтому – пробелов тут не может быть – и поражает сосредоточенная немногословность последних пушкинских часов. Это воистину запечатленная в десятках воспоминаний картина подлинного исполнения последнего долга христианина.
Никакой патетики, никаких театральных, предназначенных для публичного оглашения откровений, только самые необходимые распоряжения, только самое главное…
– Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом опять выходи замуж, но не за пустозвона, – говорил он, прощаясь с женой.
Все короче становились фразы…
– Боже мой. Боже мой! Что это?
– Скажи, скоро ли это кончится? Скучно!
– Смерть идет.
– Опустите сторы, я спать хочу.
В 2 часа 40 минут пополудни 29 января Пушкин попросил морошки. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья и начала кормить мужа с ложечки. Пушкин съел несколько ягод и сказал:
– Довольно!
– Кончена жизнь, – спустя пять минут сказал он. – Теснит дыхание.
Это – последние слова…
«Всеместное спокойствие разлилось по всему телу. Руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колена – также. Отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая разделила уже живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его»… – писал В. И. Даль.
Воистину величественная, достойная любого православного христианина кончина.
Современник А.С. Пушкина святитель Игнатий (Брянчанинов) написал такие строки:
Эти стихи – стихи-предостережение.
В. А. Жуковский, разумеется, не мог их знать, но как удивительно перекликается с ними его описание первых посмертных минут Пушкина:
«Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».