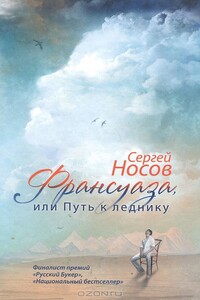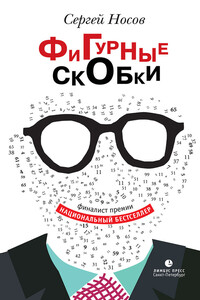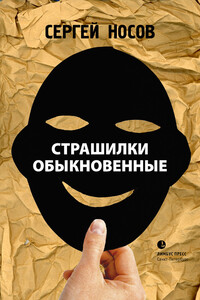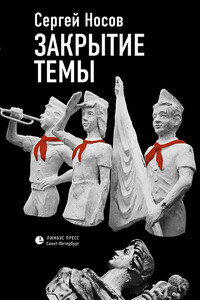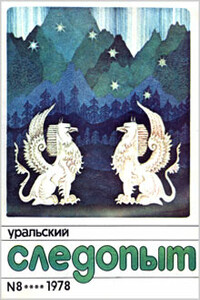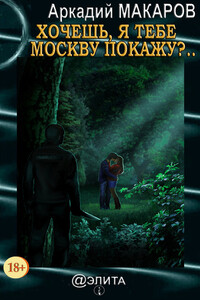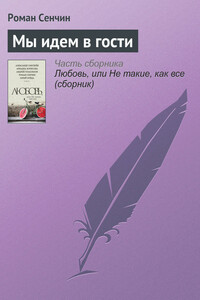Поцелуй Раскольникова | страница 38
Это была тогда общая читательская практика, своего рода умственная игра – по отдельным цитатам реконструировать как бы целое. Отгадывать то, что находится далеко за предметом высказывания.
Разумеется, эта читательская экстраполяция, в силу ее приблизительности, была чревата мифотворчеством. Читатель сам придумывал себе литературу – своего Селина, своего Арто, своего Жана Жене… – то, что он не имел возможности прочитать. Рассуждать в компаниях друзей о непрочитанном было в порядке вещей так же, как пересказывать фильмы, которые сам видеть не мог, но о которых где-то слышал или читал.
В этом отношении были востребованы даже статьи, громящие буржуазное (в действительности чаще всего антибуржуазное) искусство Запада с позиций, так сказать, догматического марксизма (или того, что тогда понималось у нас под словом «марксизм»). Эти статьи читались с поправкой на тенденциозность. Выработался даже особый навык извлекать информацию о критикуемом произведении из-под каркасов малоинтересной критики.
Не надо думать, что все это носило умозрительный характер; такое чтение-вычитывание могло существенно изменить жизнь человека. И примеров тому более чем достаточно.
Сказанное можно проиллюстрировать любопытным литературным примером.
Помню, в начале 80-х на меня произвела впечатление повесть одного начинающего тогда автора, опубликованная в довольно специфическом издании «Литературная учеба» (Николай Курочкин: «Пограничная ситуация», позже повесть переиздавалась под названием «Смерть экзистенциалиста»). Герой, житель Благовещенска (10 000 километров от Москвы), преподает в техникуме политическую экономию (дисциплина, обязательная для учебных заведений того времени). Неожиданно для себя он увлекается французским экзистенциализмом – главным образом Сартром. Причем из Сартра он мог читать только пьесу «Мухи», все остальное извлекал опосредованно – из статей советских философов, посвященных критике экзистенциализма в целом. Сартра и других экзистенциалистов по необходимости цитировали, чтобы тут же опровергнуть, и эти драгоценные для героя повести цитаты он методично выписывал в толстую тетрадь, а когда их набралось много, скомпоновал так, что получился своего рода самодельный трактат. Получив, таким образом, весьма приближенное представление об экзистенциализме, герой повести с одержимостью неофита стал проповедовать философию существования среди знакомых. А потом и вовсе, следуя (по его понятиям) Сартру, решил быть ответственным за свою судьбу не на словах, а на деле. Стремясь к подлинной свободе, он сознательно вовлек себя в «пограничную ситуацию»: бросил работу, ушел из дому, начал бродяжничать, обитал на вокзалах и кладбищах. Стремление к ощущению полноты жизни и поискам ее смысла привело его к мысли о самоубийстве – исключительно по идейным соображениям. Впрочем, самоубийство не удалось герою: в критический момент у него не хватило духу броситься под поезд…