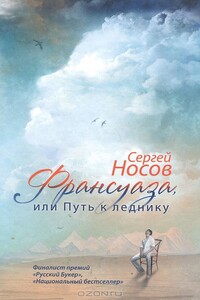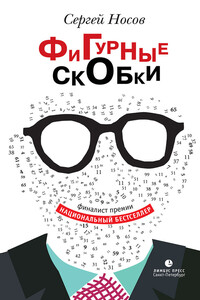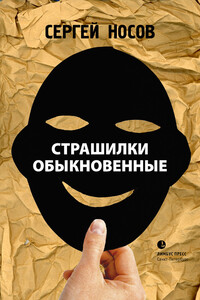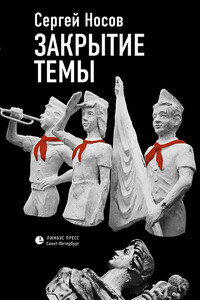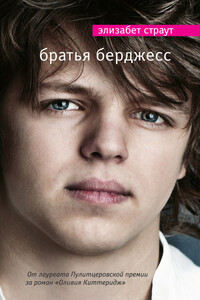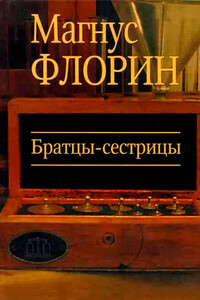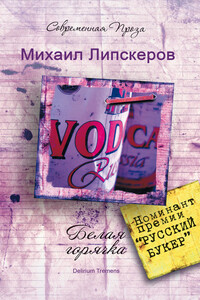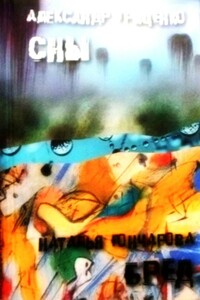Поцелуй Раскольникова | страница 36
При этом любой здравомыслящий советский читатель имел представление о пределах возможного. Вряд ли кто-нибудь тогда надеялся прочитать хоть когда-нибудь на русском языке сочинения, например, маркиза де Сада или, скажем, Селина. История, впрочем, посмеется над читательскими ожиданиями: прежде недоступное будет и издано, и переиздано, но только уже практически в другом государстве и в другую эпоху, когда читательский интерес к литературе, как таковой, стремительно упадет.
Вообще говоря, в сознании обычного советского человека за французскую культуру всегда отвечал Александр Дюма и прежде всего «Тремя мушкетерами». Книгу эту в России считали почти родной, своей. Актер, сорок лет назад сыгравший д’Артаньяна в советском сериале, до сих пор пожинает плоды популярности, оставаясь известнейшим человеком в России. Мой отец, прочитавший «Мушкетеров» в детстве, и в свои 80 лет помнил имена персонажей второго и третьего плана.
В начале семидесятых, в условиях наисильнейшего читательского бума, с романом «Три мушкетера» был связан поразительный социальный эксперимент. Тогда придумали выдавать право на покупку некоторых наиболее популярных книг за сдачу макулатуры в специально организованных пунктах приема. Человек, сдавший 20 килограммов макулатуры (скажем, старых газет и журналов), получал специальный талон, дающий ему право купить (!) «Трех мушкетеров». Таким образом был продан миллион экземпляров романа, и каждый экземпляр из этого миллиона был обеспечен двадцатью килограммами макулатуры. Другой роман Дюма, «Графиню де Монсоро», по той же схеме распространили тиражом уже в два миллиона экземпляров, что было равносильно выручке в 40 000 тонн макулатуры. Та же система распределения литературы позже была распространена и на некоторые другие книги (например, на прочие романы Дюма и романы Мориса Дрюона, тиражи их тоже значительно превышали миллион).
Интерес к литературе более-менее элитарной – в условиях известных идеологических ограничений – пытался удовлетворить журнал «Иностранная литература», тираж которого в то время колебался в районе отметки сто тысяч. В частности, в середине шестидесятых там были опубликованы два образца драмы абсурда – «Носорог» Ионеско и «В ожидании Годо» Беккета, перевод с французского. Другой журнал – «Новый мир» – печатал «Падение» Камю.
Речь идет о так называемых «толстых» литературных журналах – действительно толстых и без единой картинки, сплошь тексты и только тексты. Я, помнится, заказывал номера с Ионеско и Беккетом где-то уже в начале восьмидесятых – в читальном зале Публичной (общегородской) библиотеки, и нашел их изрядно потрепанными. В те годы, кстати, подписка на популярные журналы в виду их немереного спроса была искусственно ограничена, причем весьма занятным способом, вполне достойным драмы абсурда. Дело вот в чем. Подписывались на «толстый» журнал по месту работы или учебы. Обычно в трудовом коллективе кому-то поручали в качестве «общественной нагрузки» отвечать за подписку – он собирал деньги на газеты и журналы и выдавал «квитанцию о подписке». Осенью, когда начиналась «подписная кампания», в каждой лаборатории, в каждой студенческой группе действовал «ответственный за подписку». Партийное начальство требовало от него подписки прежде всего на партийные издания. Так вот, желающие подписаться на «Иностранную литературу» (или другой «толстый» журнал) обязаны были сначала подписаться на партийную газету «Правда» или на скучнейший теоретический журнал «Коммунист». В противном случае на «Иностранную литературу» их не подписывали.