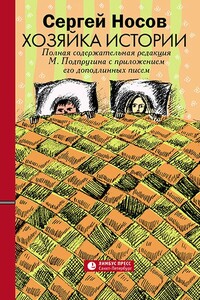Люди и судьбы | страница 39
Я-то почему всё это говорю? Без эмоций жили. Просыпаюсь утром, а сосед мёртв. Ну, вынесли, похоронщикам отдали, и всё, забыли. Кто он, что он? Нет человека и нет, и всё тут. Работаешь, а рядом с тобой упал человек, и ты уже знаешь, это кандидат в покойники. Знаешь, и всё, только думаешь, как бы самому не упасть, а через пару минут и об этом перестаёшь думать. Думалка вся как мёртвая, мерно гудит, и всё. В висках шум и стук. Тук, тук… Это сердечко наигрывает. Значит, вроде как живой. И вновь в мозгах туман. А тут как ту горбушку вспомню, и слёзы из глаз…
Пожалуй, только в сорок пятом некое просветление пришло. Немчура почувствовала, что конец войне скоро, пыл свой слегка усмирила. Капо, так те продолжали злобствовать, а немцы притихли малость. В конце апреля сорок пятого наконец-то пришло освобождение. Американцы нас освободили. Как-то не особо заметно всё произошло. Вроде вот немцы ещё бродят по периметру, и тут вдруг крики, шум. Все бросились из барака наружу. Ожидали, конечно, ожидали мы освобождения и вот дождались. Американцы на танках и автомашинах у проволоки. Я-то к забору не поспел, оно, может, и к лучшему, подавили многие тогда с радости друг друга. А уж капо досталось так досталось. Порвали некоторых, прямо вживую порвали. Американцы, увидав нас, просто рыдали. А что ж не плакать? Худые, оборванные и кричащие скелеты. Вместо улыбок широко открытые кривые рты. Картинка, конечно, не для слабонервных.
Дальше фильтрационный лагерь, томительное ожидание передачи советской администрации и на родину. Допрос в НКВД был, по счастью, для меня формальностью, всё же я с шестнадцати лет в лагере. Так что получил справку о пленении, а уж потом паспорт. И вот я на родной земле. Возраст двадцать, образования никакого, изранен, переломан, с нервным тиком, делать, кроме как копать и носить грузы, ничего не умею. Двадцать лет, а ещё не целован. Вот таким прибыл я из далёкой неметчины.