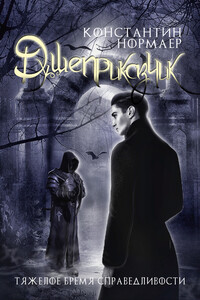По осколкам | страница 16
Я едва удивляюсь тому, что не удивляюсь.
Но вдруг замечаю, что щеки моей Старшей откровенно полыхают розовым.
— Крин что-то успела тебе сказать?
— Нет.
— А почему тогда…
— Она не говорила. Она лишь спросила меня, зачем мы все это делаем?
— Инэн! Ты что-то замалчиваешь. Кстати, может, потому и кричишь… Тебе незачем от меня что-то скрывать. Лучше ответь — что она успела сказать, раз ты теперь задаешь мне такие вопросы?
Молчу.
Хочется верить, что во мне этим молчанием отзывается частичка вредности Крин — я не могла не перенять от нее чего-нибудь. Но на самом деле просто не вижу смысла говорить с тем, кто не хочет говорить вообще. Эта слабость — нежелание откровенного разговора — подсвечивается у Алы на губах и ниже, по шее.
Принимаю мокрый снаружи бокал (хоть бы вытерла! руки будут липкие) — и молчу. Слежу, как взятой со стола салфеткой она, задумавшись, неторопливо вытирает свои пальцы, — и молчу. Мне-то за салфеткой вставать, а я не хочу. Лишь смотрю на Алу пристально. Она должна сообразить, зачем я на нее так смотрю.
Может, все-таки что-то проникло в меня с воздухом Первого. Не помню я за собой такой наглости, чтобы ждать, когда мне Старшая салфетку подаст.
Пью — и молчу. Смотрю, как розовое постепенно исчезает с лица и шеи моей Старшей, оставляет только в одежде два совмещенных цвета и еще один — в волосах.
В своем выглаженном балахоне, ленивом и томном, как ее голос, как ее комната, среди мягких кресел и диванов, Ала выглядит цельно со всей этой обстановкой. Странно, но я не помню ее вне ее покоев. Вернее, помню, что она проверяла нас на внешних уроках, что провожала меня, выходящую на путь, но… но как она все это делала?
Под небом она словно исчезает, ей там словно не место.
Зато здесь, в полутьме, с неназойливыми круглыми светильниками под потолком, среди ласковой силы, наполняющей каждый предмет на полках, развешанных по всем стенам, здесь, возле роскошного мягкого дивана, на котором я сижу уже четверть поворота, — среди всего этого чарующего блаженства Ала выглядит существом, одновременно принадлежащим и нашему разбитому миру, и тому, прежнему, — в лучших состояниях обоих. Если на нее смотреть и ее слушать, то думаешь, что никогда она не испытывала ничего мучительного и тяжелого, никакая боль еще не коснулась ее. И потому невольно веришь, что еще ничего не случилось во всем мире и никакие разрушения к нам не пришли.
Можно сказать, что все Старшие производят такое впечатление, хотя других я видела издалека или же говорила с ними мимолетно. Они своим образом и примером, своей красотой, манерами, умением поддержать и направить, показывают нам, как было прекрасно и мудро то, что требуется вернуть. Как сейчас оно ничтожно мало, как вынужденно ютится на одном осколке, когда призвано занимать весь мир!