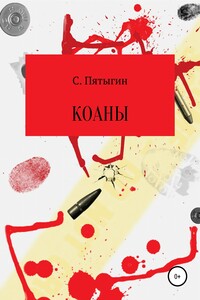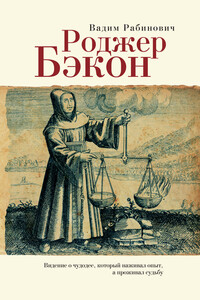«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 54
Вся многозначность представления о трапезе становится ясной, когда мы смотрим на нее через призму христианской антропологии. Для христианской антропологии важно то, что человек преображается весь, не только духовно, но и телесно. Отсюда и необходимость ритуализации каждого приема пищи в христианской традиции – благословление пищи перед едой: «Егда трапезу предпоставляеши, в начале священици Отца и Сына и Святаго духа прославляютъ, потом Деву… и егда ядяху з благодарениемъ, и с молчаниемъ, или з духовною бе седою, тогда Аггели невидимо предстоятъ»[148]. В основе этого представления лежит учение апостола Павла о внешнем (телесном, плотском) и внутреннем (духовном)[149] человеке.
Тема связи душевного и телесного достаточно последовательно проведена в таком популярном на Руси апокрифе, как Заветы 12 патриархов. Апокриф «Заветы 12 патриархов»[150] древнего происхождения. Его фрагменты встречаются среди кумранских рукописей[151]. Они были соединены в единое целое в I–II вв. н. э. На Руси «Заветы» появились в XIII в.[152] в составе Хроники Иоанна Малалы. Позднее входили в списки Толковой Палеи. «Заветы» содержат поучения 12 ветхозаветных мудрецов – сыновей библейского патриарха Иакова[153]. Иконописное воплощение «Заветов» – праотеческий чин иконостаса[154], отображающий ветхозаветную церковь от Адама до Моисея. В руках ветхозаветных патриархов праотеческого чина – свитки с надписями. Надписи на свитках содержат пересказ апокрифа, либо цитаты из него. Каждый «завет» рассматривает те или иные аспекты человеческого существования: «Завет Си меонов о зависти». «Завет Левгиин о жречестве», «Завет Иудин о мужестве», «Завет Исахаров о доброумии», «Завет Данов о ярости и лжи», «Завет Гадов о ненависти», «Завет Асиров о двою лицю, и о злобе, и о доброумьи», «Завет Иосифов о премудрости», «Завет Вениаминов о помысле чисте». Но наибольший интерес с антропологической точки зрения представляют два из них: «Завет Рувимов о согрешении и покаянии» и «Завет Нефталимов о естественной благости».
На первое место среди «составов телесных» ставится животворящее начало – «дух жизни», под которым, очевидно, подразумевается пневма – жизненный дух, который притягивается легкими человека, переходит в кровь и, распределяясь через нее по всему телу, способствует течению психофизиологических процессов. После дыхания следует зрение. Это вполне естественно, ведь в древности душа, которая «видит» – «понимает»; отождествим с головой и, прежде всего глазом. Следующие ступеньки в иерархии чувств занимают слух («слышание»), обоняние, речь («глаголание») и осязание