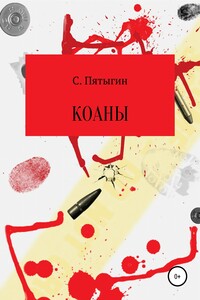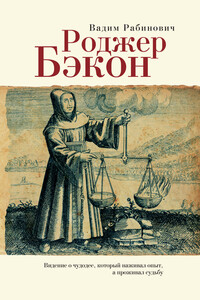«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 53
Существует еще один аспект трапезы. В самом начале мы писали о том, что трапеза в средневековой духовной литературе, это прежде всего жертвоприношение Христа, совершенное для спасения рода человеческого. Христианин, а тем более монах, строит свою жизнь в подражание Христу (о монашестве как подражании Христу писали Климент Алексан дрийский и Игнатий Антиохийский[143]), и как Христос, он приносит себя в жертву. И не случайно часто в житиях святых, их жизнь уподобляется трапезе. «Се убо духовная трапеза предлежить»[144], сказано в Житии Сергия Радонежского. Но трапезой здесь становится не только жертвенная жизнь Сергия Радонежского, но и рассказ о ней – житие, становится для читающих трапезой духовной. И не только (и не столько) для читателя жития, но и для слушателя – прихожанина церкви, который слушал историю жертвенной жизни подвижника во время службы, которая происходила в церкви на праздник святого[145]: «житие рассматривается как проповедь, произносимая на церковных празднествах. Проповедь предлагается как трапеза духовная, значит и житие должно восприниматься как духовная пища»[146], произносимое чтобы «насытити алчущих душа, наипаче же духовных отец учениа, и душеполезнаа словеса не токмо телеса, но и самую душю могут укрепити и окормляти»