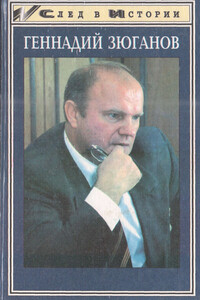Танец и Слово. История любви Айседоры Дункан и Сергея Есенина | страница 120
Исида стояла так долго, что все устали ждать, изнемогая от жары.
В одно истинное мгновение поняла: она сюда больше не вернётся, никогда. Пришло время спуститься вниз. Оторвала руки от камней.
Отчаянию её не было предела, когда она вернулась в свой дом на Rue de la Pomp. Вспомнила, как в последний их вечер пальцы Архангела касались вот этих клавиш. Потрогала их чёрно-белый шёлк. Переполненная горем, просидела всю ночь неподвижно, одна. Теперь некому было её спасти – Архангел бросил крылья и ушёл пешком…
Что она чувствовала на последней станции, откуда ещё можно было вернуться, в Ревеле? Что горят за спиной мосты. Поезд покачивался плавно, как мифическая лодка с демоном Хароном, что перевозит в царство Аида. Местом, смежным с адом, и считали в Европе новое Советское государство. Выглянешь в окно – полная, чернильная темнота, не нарушаемая ни единым случайным огоньком. Ад.
Сергей быстро шагал по комнате – туда-сюда, туда-сюда. Полы крылатки развевались и путались у него в ногах. Цилиндр сидел как-то залихватски, на боку. Толик, глядя на него, ухмылялся. Не выдержав, сказал:
– Сядь! У меня голова кружится.
Сергей остановился. Сдёрнул цилиндр и метнулся к Толику. Тряс и тряс его за плечи.
– Зачем-м-м? Зачем?!
Он готов был расплакаться. Губы дрожали.
Толик женится. Ведь все они, бабы эти, – мартышки! А его – тем более! Тощая, вертлявая, ужимистая. «Ах, Мартышечка-душа, собой не больно хороша…» При ней он пел иначе: «Ах, Мар-тышечка-душа, собою оч-ч-чень хороша!»
– Ты меня с Зинаидой развёл, ты!!! – неистовствовал. – Сам говорил: поэту жена – овца в хлеву! Ну?!!
Крыть Толику было нечем. Развёл руками.
– И где я буду жить? С вами?! На краю постели вашей?!
Вместо ответа Толик спросил:
– Ты зачем это носишь? Смешно ведь. Ну ладно, похулиганили и будя…
– Понимаешь. Ты ничего никогда не понимаешь! Просто я хочу быть хоть немного на него похожим…
Когда-то на заре своих мечтаний о славе поэта, мальчишкой на берегу Оки, он писал о том, что было вокруг: о лошадях, пьющих луну из пруда, о несчастной девичьей любви, списанной из народной, неизвестной никому песни, о зеленях и берёзах-свечках. Но несчастный жеребёнок, что пытался обогнать их поезд, открыл ему глаза. Каменный город научил его боли, захватил его сердце в плен, вывернул и показал ему самому. Кровавый красный террор, пленивший Русь, залил и его глаза – кровью. Всю душу залил. С этого мгновения и стал он писать, пропуская внешнее через внутреннюю боль, стал смотреть в себя.