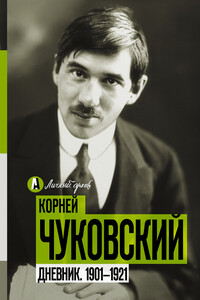Танец и Слово. История любви Айседоры Дункан и Сергея Есенина | страница 108
Как он читал! Зал безмолвствовал. Люди смутно понимали: происходит что-то важное – это не просто театр, не просто стихи. Почему Пугачёв? Нет! Это он сам – Сергей – падает под неподъёмной ношей своей души. Это синий пламень его глаз раздуло ветром во весь зал. Это он готов биться до последнего, бежать в азиатчину, но жить, жить, жить! Страшны и проникновенны были его слова о смерти, о звериной жажде жизни. Вот она, смерть, поглядите, ходит рядом. Все должны понять, где они живут! Неподдельный ужас струился от него в зал. Буквально – до шевеления волос на голове, до дрожи, до слёз… Ведь только раз мы живём, только раз осыпается черёмухой юность! С хрипом из стиснутого спазмом отчаяния горла вырвались у него последние слова поэмы…
Каждый в зале понял: им предстоит выжить в этой новой Стране Советов. Но герои, герои погибнут…
Известие о смерти Блока потрясло Сергея. В этот момент он был в «Стойле». Начало августа. Чудесный денёк. Как же так, как же так… Воздуха, ему не хватает воздуха! Сел. Слёзы сами хлынули. Сидел, замерев, весь внутренне сжавшись, и не вытирал их. Перед ним мелькали люди, чьи-то лица, сочувственные рожицы знакомых девчонок. Вокруг спорили, горланили, обсуждали – как да почему. Он же сразу всё понял тогда, не нужно ничего объяснять. Всё ясно. Почему-то вспомнился Андрей Белый и его строчки про душу. Погибнуть иль любить. Разве он, Сергей, сейчас переживает не то же?! Как же он устал, он усталым таким ещё не был. Блок ушёл потому, что ему нечем было дышать в гниющем воздухе постреволюционной эпохи.
Нет пути вперед, всё перекрыто. Гений, он видел это лучше других. Как у Пушкина – покой и воля. Они необходимы для высвобождения гармонии, но их отнимают. Что дальше отнимут? Жизнь?
Сквозь плывущий туман слёз, будто из небытия, Сергей слышал голоса. Что в предсмертном бреду Блок с отчаянием безумца повторял десятки раз один и тот же вопрос: «Все ли экземпляры „Двенадцати“ уничтожены?!» По глазам Любови Менделеевой, всех, кто приходил к нему, он старался понять: не остались ли они ещё где-то? Может, от него скрывают? Кричал страшно и мучительно, терзаемый нечеловеческой болью: «Сожгите! Сожгите, сожгите их!!!» То вдруг вспомнил, что дарил экземпляр Брюсову. Истощённый, умирающий, один остов его прежнего, – рвался с кровати ехать в Москву. Вырвать из рук Брюсова проклятые стихи! Вырвать или убить!
Сергей плакал. Не как ребёнок, как прозревший. Если раскрыть пошире глаза – всё