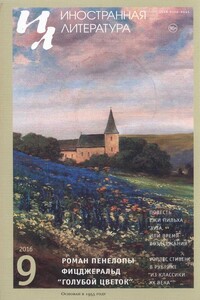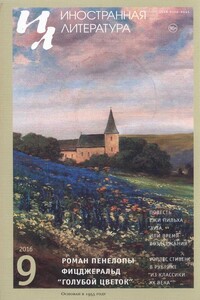Голубой цветок | страница 50
— Что это он? — пробормотал Эразм.
— Не знаю, — шепнул Фриц в ответ. — Шлегель говорит, что Гёте тоже себе купил такие кресла, но, сидя в них, он теряет способность думать.
Отец заговорил и, словно отбивая такт, он ударял ладонью по глубокому подлокотнику.
— Вы ждете, что я стану рассматривать ваше поведение за прошедший год, ваши успехи, оплошки ваши. Вы ждете, что стану вас расспрашивать о том, что вы еще не открывали мне. Вы собирались — да что! в том долг ваш, — правдиво мне ответить. В этот сочельник, сочельник 1794 года, я исповедей от вас не жду, я вам не стану задавать вопросы. И что причиной? А то, что будучи в Артерне, я получил письмо от стариннейшего друга своего, от прежнего Предигера у братьев в Нойдитердорфе. Письмо рождественское, и в нем он мне напомнил, что мне пятьдесят шесть лет, и уж недолго мне осталось бременить собою землю, таков закон природы. Предигер наставляет меня не укоризны ради, нет, он мне напоминает, что день этот — день несказанной радости, когда все люди, мужчины и женщины, становятся не более, но и не менее, как дети. А потому, — прибавил он, тяжелым взглядом обводя сверканье и блеск деревянных ложек, золотых орехов, — и сам я в этот священный день стал совершенно, как дитя.
Ничего менее детского, чем взрытое морщинами, широкое лицо фрайхерра под высокой лысиной, нельзя было себе представить. Предигер, как видно, и не пытался. Братья, обученные радости, верно, забывали о том, как трудна бывает радость, а многие совсем ее не знают. Фрайхерр фон Харденберг с усильем поднял взгляд, упертый в стол.
— А музыка — у нас разве не будет музыки?
Бернард, разочарованный нежданной отцовой мягкостью, утешенный, однако, смущенным видом старших, взобрался на библиотечную стремянку, рассчитанную на достиженье самых верхних полок, и запел, голосом еще совсем детским, нежнейшей чистоты. «Родился Он, Его возлюбим».
Ангельский голос стал сигналом для ждавших под дверью слуг, и все вошли, внесли двухлетнюю Амелию, которая смело тянулась ко всему, что блестит, и толстый сверток, в глубине таивший младенца Кристофа. Пламя уже подбиралось к веткам, свечи оплывали, и шипели, и плевались, и пускали сладкий, тонкий дым, когда Сидония невозмутимо их гасила. Все стихло — в дрожащих пятнах тьмы и света все отыскивали свои столы.
Эразм был с Фрицем рядом.
— А теперь — что ты скажешь отцу?
26. Мандельсло
А ничего. Фриц привык благодарно принимать то, что пошлют Судьба и Случай, а потому он воспользовался случаем и ничего не сказал. Отчуждение Эразма печалило его куда больше, нежели разлад с отцом.