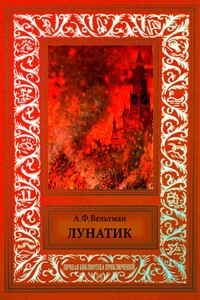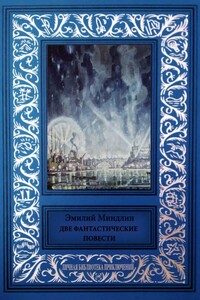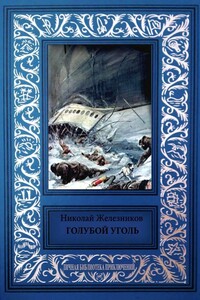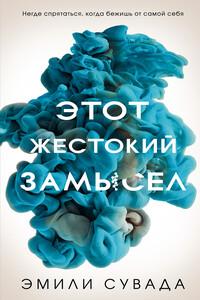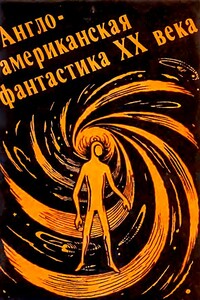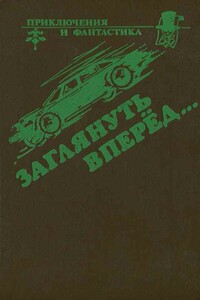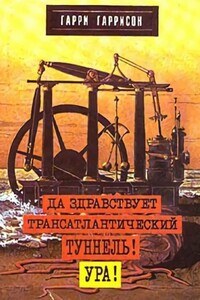Ачи и другие рассказы | страница 48
Неудивительно поэтому, что все существующий противоречия привели А. Брюкнера к следующему заключению: «Эти русские эпические песни успели подвергнуться всевозможным толкованиям: то в них находили мистический элемент, и Илья оказывался воплощенным богом грома, в то время, как Владимир и Добрыня — солнечными богами; то их объявляли строго историческими, видя в них описание побед и поражений „вещего“ Олега или галицких и волынских князей; то в них открывали скрытые социальные символы и аллегории, переход от каменного века к металлическому или победу над дикими элементарными силами природы посредством сохи и культуры. Там, где один исследователь видел чистейшее и правдивейшее воплощение славянского духа, другой находил лишь осколки различных восточных мотивов, один — кавказских, другой — монгольских или тюркских племен» 17.
Если даже расширить допущенный Ф. Буслаевым «мифологическо-исторический» компромисс, равно как и предложенный О. Миллером — «частичных заимствований», если даже допустить, что в некоторых случаях правы представители мифологической гипотезы, в других — последователи исторической школы и, наконец, в третьих — приверженцы теории заимствований с востока, запада, севера или юга; если даже разбить былинное сказание о каждом богатыре на ряд отдельных эпизодов и применить к каждому из них отдельно одну из существующих теорий — то полная несостоятельность всех их, даже при самой поверхностной критике, становится вполне очевидной для любого непредвзятого исследования.
«В каждой былине есть две составные части», говорит А. Гильфердинг: «места типические, по большей части описательного характера, либо заключающие в себе речи, влагаемый в уста героев, и места переходные, которые соединяют между собою типические места и в которых рассказывается ход действия» 19. К этим типическим местам, остающимся почти неизмененными во всех вариантах, относится прочно установившийся образ богатыря и характер главных его подвигов, укоренившийся настолько, что уже «нет надежды познакомиться с каким-нибудь новым типом богатыря» 2. При этом так называемая типическая часть былин осталась издревле незатронутой; ни время, ни народная фантазия не могли пошатнуть ее. Этот «скелет» богатырской песни исполняется теперь так же, как в старину. Если спросить у сказителя, что может означать то или иное темное место, то получают лаконический ответ: «мы не знаем этого — это так поется» 20.