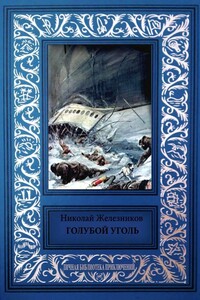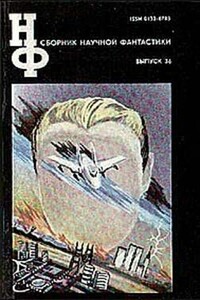Ачи и другие рассказы | страница 29
А затем, в перипетиях гражданской войны, не был ли он волей Провиденья спасен от всех опасностей? Не произошло ли чудо в тот день, когда он в полной форме и на виду у всех, под градом пуль вырвался из деревни, занятой уже красноармейцами, в то время, как его товарищи, переодетые и попрятавшиеся, были обнаружены и расстреляны? Не выздоровел ли он от тифа, к удивлению всех врачей, приговоривших его к смерти, — и не была ли самая болезнь эта к спасению, так как его часть, отправленная в это время в обход красных, была дочиста уничтожена кавалерией Буденного?
Игнатьев вспоминал о кошмарных днях эвакуации и ясно чувствовал, что какая-то невидимая рука, помимо его собственной воли, руководила им и охраняла его… Когда, в дни константинопольского сиденья, все казалось погибшим, и не было видно никакого просвета из наступившей нищеты, — неожиданная встреча со старым другом, случайно попавшим туда же, спасает от голодной смерти и позволяет перебраться в Прагу. А там — победа за победой, возносящие его на вершины успеха и славы… Картины его восторженно принимаются художественными и общественными кругами и раскупаются нарасхват; со всех сторон засыпают его заказами и просьбами; он входит постепенно в моду; журналы и газеты считают за честь поместить у себя репродукции его картин или даже пустяшные наброски — словом, кажется, он достиг верха благополучия… Но вдруг — все резко переменилось.
С чего именно и как началась эта полоса в его жизни — Игнатьев не мог ни понять, ни припомнить. Как будто по мановению волшебного жезла интерес к нему и к его произведениям стал быстро остывать, пока не упал до полного безразличия. Выставки его посещались с каждым днем все слабее, картины оставались непроданными. Количество заказов быстро падало, и все реже появлялись на страницах журналов его работы… И со всем этим снова приблизились материальные затруднения, и снова надвинулись призраки жестокой нужды.
Теперь, восстанавливая в памяти этот тяжелый период своей жизни, так внезапно сменивший эпоху постоянного везения, Игнатьев снова переживал то чувство внутренней пустоты, и бессилия, которое охватило его при первой же неудаче… Словно какое-то смертное дуновение пронизало все его существо, и иссякла в нем всякая энергия и жизненная сила. Он не мог отделаться от неясного ощущения, что прекратилось какое-то благодетельное руководительство, оберегавшее и спасавшее его прежде, что он соскользнул с ковра-самолета, проносившего его, бывало, над всеми опасностями и несчастиями… И когда с необычайной сдержанностью и холодностью была принята его новая картина, на которую он возлагал все свои надежды, он ясно почувствовал, что оборвалось нечто у него внутри, что ледяным холодом обвеяло его душу, — и что наступил конец всему.