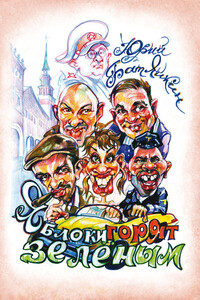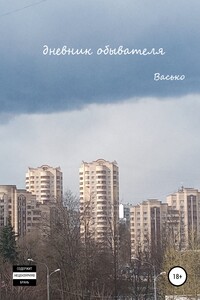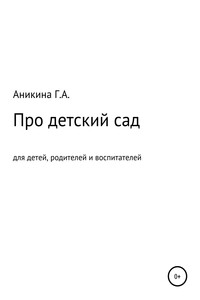До встречи не в этом мире | страница 35
И прямо при них пишу: от слишком яркой лампочки к утру вскочил желвак на коже абажура.
Ну, с образностью ясно. А современности-то нет вовсе. «Будет когда-нибудь», – отвечаю. Московско-пролетарский стиль сочинения стихов мне претил, и я перестал там появляться. В этот момент меня поддержал один очень интересный человек.
Недалеко, на Пушкинской площади, находился тогда журнал «Знамя», куда я отнес все свои юношеские стихи: четыре общих тетрадки. Как-то пришел за ответом, а Главный мне говорит:
– Потеряли мы твои стихи, мальчик.
Я выхожу из кабинета – чуть не реву, готов убить его, но вслед за мной вышел Андрей Донатович Синявский… Он объяснил, что нужно не расстраиваться от потери, а радоваться. Объяснил – почему, долго со мной разговаривал на скамейке.
Не раз приглашал меня к себе, разговаривал со мной о поэзии, о миссии поэта, о свободе творчества, о свободе вообще.
Жаль, мало мы с ним общались, но для меня эта первая прививка свободы оказалась неоценимой.
Когда его выдворили из страны, я горько пожалел, что не ценил встреч с ним.
Меня же начали поочередно выгонять из всех школ, так что, хоть я и окончил в конце концов десять классов, фактически я закончил на седьмом. Однако менять школы было интересно, волнение какое-то охватывало поначалу.
В пятнадцать я влюбился в Аню Дулицкую, известную в московских элитных юношеских кругах и фантастически красивую девочку.
Я ежедневно сочинял для нее по несколько стихотворений, потом она меня бросила, на то была причина, меня не касавшаяся. В подробности вдаваться не буду, но через год мы встретились.
Я проводил ее до здания ТАСС, где работала ее мама и где она сама пробовала себя в журналистике. Дома я написал стихи и показал ей.
– Вот ты и родился как поэт, – сказала она.
Это стихотворение было первым, которое потом я прочел Бродскому.