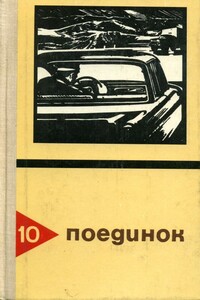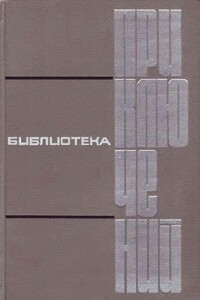Избранное | страница 86
Никогда еще он не чувствовал, что мир так широк, что столько тысяч людей искренне опечалены смертью Андрея. Он вспомнил размытую дождями дорогу к Мукдену, штаб полка, письма с тонкой черной каймой, наваленные в патронный ящик, и кислую бабью физиономию писаря, проставлявшего на бланках фамилии мертвецов. Получила бы жена такой конверт, если бы его, Никиту Коржа, разорвала шимоза?[50]
Перед ним лежала груда писем. Горячих, отцовских. Не ему одному — всем был дорог озорной остроглазый Андрюшка… Он перевел взгляд на стену, где висел портрет Андрея Никитича Коржа. Художник нарисовал сына неверно: рот был слишком суров и брови черные, но глаза смотрели по-настоящему молодо, ясно, бесстрашно.
Никита Михайлович снял очки и облегченно вздохнул. В первый раз после памятной телеграммы он не чувствовал боли.
1937
Рассказы
Бой
Взводный приподнял полог палатки, выглянул наружу, и тотчас же его лицо покрылось крупными каплями.
— Эх, и сечет… — сказал он, стряхивая с волос брызги, — аж дышать нечем.
Разговор смолк. Несколько секунд красноармейцы прислушивались к дождю. Намокшая палатка глухо гудела под ударами капель. Ветер, обтягивая парусину, свистел в щелях. Временами распахивался полог, и тогда брызги влетали в палатку, точно маленькие стеклянные бомбы.
Дождь шел, почти не переставая, шестые сутки. Небо, точно намокшая парусина, грузно легло на сопки. Благовещенск, обычно отчетливо видимый из лагерей, маячил теперь только туманным силуэтом каланчи. Палатки стояли точно на островках, окруженные рябыми от капель озерами. Превратившиеся в реки ручьи несли к Амуру сучья, сено, рыхлые желтые клочья пены. Дождь лил с такой силой, что, запрокинув голову, можно было, не отрываясь, напиться, как из крана. Казалось, над землей больше воды, чем воздуха…
— Сорок — сегодня, сорок — завтра, — ворчливо сказал Кабанов, отдирая щепкой с подметок жирные пласты грязи. — С таких переходов не то что сапоги, и сам в два счета развалишься.
Он повторял это каждый день. К высокому скрипучему голосу привыкли, как привыкали к ветру, шуму дождя. Кабанов брюзжал каждый день из-за длинных, трудных переходов по сопкам, из-за мокрых шинелей, частых стрельб. Ворчал монотонно и надоедливо, «принципиально» придираясь к каждой мелочи… Только подвижный, неугомонный Шурцев находил терпение, чтобы отвечать Кабанову.
— Завел шарманку, — заметил он. — А что бы с тобой на фронте стало?..