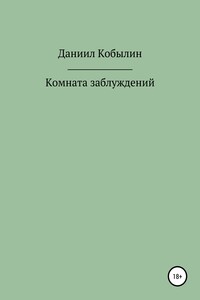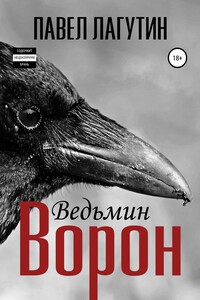Помни о Фамагусте | страница 62
Мы говорили о Саше Сатурове, Коле Аствацатурове, Коле Тер-Григорьянце.
Вы беседуете или разговариваете, шутил мой шахматный партнер, конструктор заполярной авиации, буравивший тяжелыми, навыкате, в астигматичных окулярах. Ключ к позиции выглядывал в зрачках соперника, в их расширении-сжатии от сильных и слабых полей мысли. Ты, например, подумал «конь», и зрачки остались как были, даже сузились, потому что идея твоя незначительна, это, между нами, чепуха и ремикса; а ты подумай «конище» — увеличились, увеличились! А шахматы? Ничего проще. От сильной мысли: ферзь, жертва, атака — блестят, расширяются, от слабой: вялые позиционные ковыряния — тухнут и гаснут, смекаешь?
Мы разговаривали и беседовали, и процессии женщин в белых чулках шли навстречу на променаде. В корректорской типографии я расспрашивал Лану Быкову о Коле. Увезли внезапно, что не должно удивлять, многие вещи совершаются вдруг и неожиданность их не выше, нежели у предопределенных явлений, которые, вопреки своей заданности, могли бы не произойти, подчас и не происходят. Границы зыбки, три случая ложатся вровень, тебе решать, что у нас по разряду внезапного, над чем поработала необходимость, уклонилась от диагноза Лана.
Свекр сестры из Прибалтики стал весной просыпаться в тревоге. Спозаранку колобродил по квартире, брал из холодильника маслянистую пищу, изводил домочадцев шарканьем, чавканьем. Лунатически выуженная в шкафу портупея осветила строение лабиринта. Повела по винтовым ступеням вниз, сквозь амнезию, на годы и годы назад — был он вохровцем на предприятии союзного подчинения. Уклад семьи рухнул в шесть-пятнадцать по московскому циферблату: в галифе, треухе, ремнях, экипированный охранять производство, он гудел в полыхающую бело-голубыми зарницами повесть, где закопченная, под холодной Луною дымилась и пела громада — мой аргус, мой аргус. Пульсирующий взвой, точь-в-точь израильских сирен в зените января, когда ракетами из Вавилона обстрелян был Тель-Авив, и уже я, не Лана Быкова, которая здесь не при чем, надеваю на бабушку противогаз, бегом в подвал, не спрятался — не виноват, а «скад» летит, зудящая оса, летит, ночная бормашина, без промаха, по багдадской наводке… Летит и грохается — мимо! Мокрые подмышки, просверленное небо, в него возносился свекр поутру, а бабушка сама по себе умерла, зарыта на кладбище Яркон, в тель-авивском предместье. Допекал их неделю: бился об дверь, опустошал холодильник. Они вытребовали неотложку для психов и сплавили свекра, иначе с ним было никак. Навещали, бросили, надоело; в больнице врачи ему запретили быть буйным. Но на том же заводе, который манил через море и был недоступен, о чем, проведя вторую половину жизни в нерусском городе, свекр забыл, как забыл обо всем, кроме вохровской будки, на том же заводе произошло еще одно происшествие.