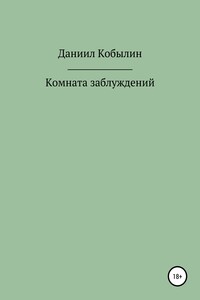Помни о Фамагусте | страница 60
Агроном косился на куривших махорку мешочников в сапогах. Из репродуктора гремела песнь профсоюза нефтяников и хлопкоробов, исполняемая пухленьким, марципановым соловьем из Шамхора, руладной свистулькой. Должен был прийти по расписанию поезд, но ничто, ни обогащенный уран конституции, расчислившей эпифании паровозов, ни министерство транспорта от Белого до Черного моря, связанных подземным каналом, в аспидные воды коего, окаймленные вдоль берегов магнолиями и анемонами в урнах, слепо били сверхмощные прожектора, ни распухшие лобные пазухи уголовного кодекса, каравшего через распиливание за троцкизм, султан-галиевщину, шайтанскую идолатрию в горных районах Кавказа и членовредительские соития в спальнях коммунальных квартир, ни устав гарнизонной и караульной службы, фанатично несомой в десятках тысяч желтоглазых, зашедших далеко на Запад туменов империи, — ничто не гарантировало прибытия поезда, которое, возможно, состоялось раньше, антрацитовой ночью, под звездами, плескавшимися в сладимом ковше, до обнародования публики на перроне. Молодой человек пустился в путь натощак, и голод напомнил о себе предупредительной коликой, в желудок ткнулся прут, обернутый в кислое тесто. В котомке узелок с пшеничными лепешками, треугольник овечьего сыра. Отщипнул, убрал из экономии сыр и отломил на завтрак треть лепешки, кипяточку бы у кассира, в жестяном синем чайнике. Не успел. Подул пыльный ветер, взревел выпью, ринулся вон, и, пожирая завихрившуюся щепку, щебень, газету, сухое дерьмо, сморщенный трупик лягушки, взахлеб выпив лужу, опять влетел в станцию — вся степь Ширвана, когда бы палкой ее загнали сюда, не рыдала бы громче, жутчей, и только соловей-бюльбюль на равных завывал о нефтевышках, лишь он, грозя, ликуя, состязаясь, кричал на ветер последнее, страшное слово — Шамхор! Шамхор! Шамхор!
Все стихло вдруг в пажити утра. Мешочник подавился кашлем, в агрономе затеялась обратная перистальтика. В эфире назначили минуту молчания, публика сняла шапки. Раздался стук каблуков из тарелки, звякнуло графинное горлышко о стакан. Диктор, взойдя по настилу в радиорубку, сказал, что на семьдесят девятом году умер классик литературы Мамед Саид Ордубады. Не так произносится имя писателя, русской фонетике, усмехнулся диктор, и близко, по гнилым верхам не взять аккорд — Мэм-мэд Са-jыд Ор-ду-ба-а-ди. Сегодня он умер, на семьдесят девятом году, вопреки клятвам врачей, чего стоят медики с клятвами. Дореволюционный режим, относившийся к людям культуры немилосердней, чем к людям труда, каковые, из-за своей толстокожести, легче приноровлялись к уколам действительности и быстрей забывали о них, заставлял автора питаться паданцами и отбросами, рыться в макулатурных кучах бульварщины, восхваляющей гибельный строй. Признаем, под его пером она была обворожительной, кто не всплакнет над романом «Пеймани Фергенг, или Несчастный миллионер», угрожающе выцедил диктор. Революция повернула прозаика к эпическим обобщениям, том за томом в издательских домах тюркского мира, дважды за ничтожный, по меркам истории, промежуток сменившего свою письменность, которая из единосущных нам благоуханных арабских плетений пала в объятия латиницы, еще терпимые по контрасту с кириллической барщиной, и все эти зверства Мамед-муаллим учинил над собой без наркоза, — том за томом, я повторяю, предавались тиснению «Туманный Тавриз» и «Подпольный Тавриз», поднялась к потолку костюмная летопись «Меч и калам». Читатель соболезновал триумфу мастера в расцветших социальных условиях, включая помпейскую (колоннада, мозаика) виллу на Апшероне, пять комнат с паркетом на набережной, лимузин-катафалк в гараже саркофага, икру осетров, исфаганскую парчу, партсанаторий с фикусом, павлином, камфарным садом в палате, а за это Мэммэд Саjыд расплатился маленькой загорелой рабыней, «девчушкой в платьице на босу ногу, беспутной младостии музой», которой снизу доверху вдохновлено его творчество. Похороны во вторник. Парк славы, аллея писателей-орденоносцев, декламировал диктор, перекрывая гул сознания агронома, пантуранского публициста в правительстве Мусават, всем формуляром, от премьера до паспортистки, замерзшего на Колыме, куда он, с чужим паспортом бежав из столицы, аллах велик, не попал, куда он. Его стошнило на ботинки. Мешочник выкашлял махорку, молодой человек жевал хлеб.