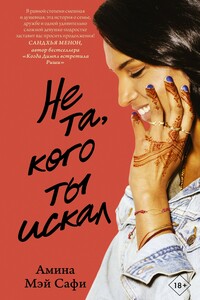Помни о Фамагусте | страница 54
Был выбор, последовать художественной или литературной традиции. Первая культивировала вседозволенность, вторая — признание вины и страдание. Я предпочел вторую, для чего через пару дней, когда весть об убийстве купца взбаламутила прессу и деловые круги, нагрянул к приятелю, бильярдисту в женском чайном салоне. Перед игрой он на глазах у дам разоблачался до исподнего, развратно облизываясь, натирал мелом кий и соски и с поразительным мастерством бил по шарам одной рукой сверху, а визжавшие дамочки совали купюры в повязку на бедрах. Ремесло наемного самца, отнимавшее, по рассказам друга, много нервов, вплоть до сбоев в конъюнктуре эрекций, дополнялось уважаемым поприщем осведомителя. Стервец валялся в постели и, попивая «баллантайн», прыскал на себя духами из полутора десятка флаконов; парфюмерные тропики, будуар. Кончай мастурбировать, взнуздал я нарцисса, пошли, махнемся одежонкой. (К сведению несведущих: в нашем городе заведено было так, что ежели преступник или энтузиаст из непричастных загорался быть заточенным в тюрьму, то ему надлежало в виду полицейского управления ритуально обменяться платьем со шпиком, с любым из их когорты, известной наперечет.) Совсем спятил, красавчик, зевнул корешок, у них ни грамма улик. Он сразу смекнул, кто зарезал грека, о чем промурлыкал на фене по телефону, мол, не высовывайся. Хватит разлеживаться, не переспоришь, дернул я одеяло. Мотри, девка, тебе замуж, сказал он раздушенный, подшофе.
Полиция пялилась, джокер по будням с неба не падает. Все пять дежурных одежд, выданных на полгода мерзавцу, висели в шкафу невостребованными, охотники виниться, вроде тех лестничных русских красильщиков, которые лет за полета или за сто до наших событий осаждали участки, проросли лопухами, жизнь скукожилась, выцвела. У кромки плещущего моря я сбросил робу и, обнаженный, бронзовый — не этот ли призрак истязал отрочество картежника-азерийца, небось, заждался в гостинице, потерпит, не маленький — потешался над тем, как приятель лез обеими ногами в правую штанину. Ищейки взяли нас в кольцо. Канцелярская шушера прилипла кувшинными рылами к стеклам. Защелкнулись наручники, пора.
Хотя признание подследственного не считалось в городе царицей доказательств, никто не отклонял моей вины по двум причинам. Сыскари понимали, что не найдут другого убивца, во-вторых, будучи детьми эпохи гниения, воспринимали самооговор как предельное произведение искусства. В остроге, в отпущенные до суда и казни две недели, я объедался рябчиками с брусничным вареньем и составлял могучий манифест, собираясь, если не пересохнет слюна, потрясти эшафот, но пятничный подвал «Посейдона» оборвал мое слово к потомкам, похерив предпраздничную, как всегда в канун площадного повешения, ажитацию властей и народа. Учитель мой, портовый репортер, отправляясь от тех же, что и обвинение, посылок, пришел к полярным выводам и взбудоражил улей. Коль скоро, рассекал он предрассудки, убийство в сочетании с раскаянием есть высшее деяние творчества, то надо не казнить, не миловать, но — возносить хвалу, увенчивать, дифирамбически возить по стогнам в колесницах. И стоит ли алтын в базарный день культура, когда в героях жирные биржевики, кадящие танцоркам оперетт, когда синематограф, зрелище илотов, диктует нормы нравственного вкуса, а юноша с глазами цвета стали томится, как медведь, на цепи, — остальное просто. Мнения раскололись. Народ, при всей мягкости нравов, хотел развлечься виселицей, в чем его поддерживала гильдия купцов. Интеллигенция была на моей стороне, заодно с переметнувшейся судейской коллегией. Прокурор, бровастый громовержец в мантии, метнул перун публичной речи, что, мол, негоже ограничивать эстетику ползучим фактом, и призвал воскресить пронзительность былых заседаний, на которых защита и обвинение сообща боролись за красоту.