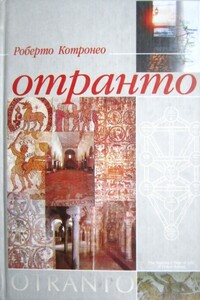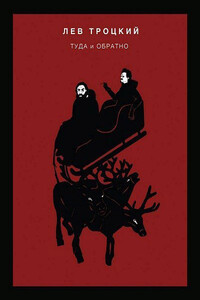Помни о Фамагусте | страница 50
Канарейкина трель очнула владельца. «Шма, Исраэль», — произнес иудей и выбросил на черный рынок порцию кепок.
8
В два пополудни, под звон четырнадцати ударов горбуны, хозяин и Валентина замерли за воскресным столом около освященного хлеба. Валя принесла его из церкви, в теплом полотенце, чтобы председатель застолья, чья должность еженедельно передавалась по кругу, так что каждый из них минимум семь раз в год принимал ее на себя, взял бы, разомкнув цепь молитвы (все религии вместе), нож с широким лезвием и разделил каравай по количеству едоков. Лишь после преломления и отведанья хлеба подавались лапша и тушеное мясо, но в дверь постучали. Хорошего не жду, вспотел иудей и на негнущихся приплелся к двери. В комнату, сузив зрачки, томясь жасминовым своим преимуществом, вступил старейшина даглинского общества, гроза Парапета, бритвенный фокусник и паладин мугамата, молодой человек тридцати лет со щетиной на девичьих ланитах и паспортной фотографией на отвороте пиджака. Они обменялись приветствиями: приниженность еврея, гнусавый, цокающий, пришепетывающий акцент даглинца, единый для всего сословия, обязательный в нем. Горница была увешана снимками с монастырских видов. Северная красота, сказал гость, капельки на матерчатых листьях, скупо пробивается солнце сквозь прошву. Тройственность сосен, песка и моря, свинца и магния в пенных гребнях, и на белых побережиях латают снасть рыбаки. Весь быто-мир мой исходит из юга, но я подвержен и северу, где нашу корпорацию испытывали силой отчуждения, — не могло ли быть так, Валентина, что пока я бродил там неузнанный, ты завершала Заступницу? Отринув красоту, искусство выбросило главное, ради чего мы посещаем его представления. Буду краток. У образов мы чаем взять не мысль, не манифестацию идеи, объективированной в чучелах, в безжизненных трофеях. Маловеры пусть напрягут свое детство, как любящая мать водила их в музей. Шах Тавризский полыхал зарей, насельник ширмы, змей китайский переливался огненною чешуей, великий Будда, обнажив плечо, проповедовал, что ссохнется карусель и наступит река, а венец всего — пронзенный стрелами Сан-Себастьян, в расцвете мученичества, на фоне синих, коричневых, желтых с прозеленью далей. Что, разве приходили мы глазеть на мертвые, неизлучающие камнекости? На жестяной мочеприемник? Половую щетку? Велосипедный остов с ржавым колесом? Не в исцелении ли красотой нуждаемся мы пуще, чем в медикаментах, и когда, напившись мугама, я достаю эту легкую, острую — иншалла! — я знаю, как и кого покорить эстетическим впечатлением.