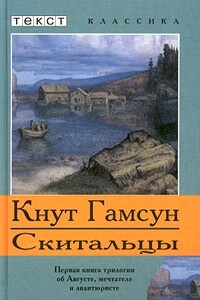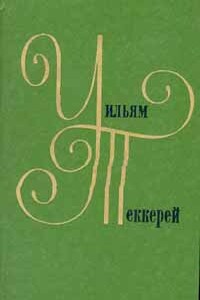Голод. Пан. Виктория | страница 85
– Но у вас такой странный вид! И в то утро, когда вы преследовали меня, – ведь вы тогда не были пьяны?
– Нет. Но я был сыт, я только что поел.
– Что ж, тем хуже.
– Вы предпочли бы, чтобы я был пьян?
– Да… Я вас боюсь! Ради Бога, пустите меня!
Я задумался. Нет, я не мог это так оставить, слишком много я терял. Хватит валять дурака на диване, в поздний вечер! Эх, к каким только уловкам не прибегнешь в такое мгновение. Как будто я не знаю, что это – простая стыдливость! Не такой уж я младенец! Спокойно! И довольно пустой болтовни!
Она сопротивлялась весьма решительно, слишком решительно, чтобы это можно было объяснить простой стыдливостью. Я как бы нечаянно опрокинул свечу, стало темно, а она оказывала отчаянное сопротивление и даже издала слабый крик.
– Нет, не надо, не надо! Если хотите, поцелуйте лучше меня в грудь. Милый мой, хороший!
Я сразу остановился. Эти слова прозвучали так испуганно, так беспомощно, что я искренне недоумевал. Она думала вознаградить меня, позволив мне поцеловать ее в грудь! Как это мило, – мило и наивно! Я готов был упасть перед ней на колени.
– Но, моя дорогая! – сказал я в замешательстве. – Я никак не пойму… право, никак не пойму, что это за игра…
Она встала и дрожащими руками зажгла свечу; я снова сел на диван и сидел неподвижно. Что же теперь будет? Я совсем расстроился.
Она взглянула на стенные часы и вздрогнула.
– Ах, скоро вернется горничная, – сказала она.
Это было первое, о чем она подумала.
Я понял ее намек и встал.
Она взяла накидку, как бы собираясь надеть ее, но раздумала, снова положила ее и отошла к камину. Она была бледна и все больше беспокоилась. Чтобы ей не пришлось указать мне на дверь, я спросил:
– Ваш отец был военный?
А сам тем временем встал, собираясь уйти.
– Да, он был военный. А откуда вы знаете?
– Я не знаю, мне просто пришло в голову спросить.
– Как странно!
– О да. Чутье очень мне помогает. Ха-ха, недаром же я сумасшедший…
Она быстро взглянула на меня, но промолчала. Я чувствовал, что мое присутствие для нее мучительно, и хотел поскорей положить этому конец. Я направился к двери. Неужели она больше не поцелует меня? И даже руки не подаст? Я остановился и ждал.
– Вы уже уходите? – сказала она, по-прежнему стоя у камина.
Я не отвечал. Униженный и растерянный, я смотрел на нее, не говоря ни слова. Ах, я все испортил! Казалось, ей не было никакого дела, что я собираюсь уходить, она словно была теперь навеки потеряна для меня, и я придумывал, что бы сказать ей на прощание, искал значительных, глубоких слов, которые поразили бы ее, подняли бы меня в ее глазах. И наперекор своему твердому решению, раздосадованный, взволнованный и обиженный, я, вместо того чтобы проститься с ней гордо и холодно, принялся болтать всякий вздор; нужные слова не приходили, я вел себя крайне легкомысленно. В голову снова лезли книжные красивости.