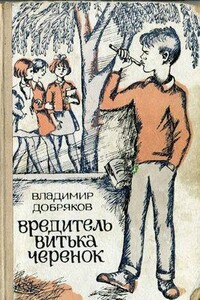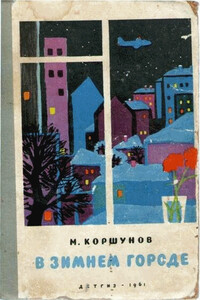Строчка до Луны и обратно | страница 40
И всякий раз сидели бы мы до утра, все говорили бы и прощались, да больно уж строгий был у нее отец. Откроет окошко и кричит: «Глашка! Сколь повторять? Иди домой!» А потом и вовсе не велел выходить ей ко мне. Из богатых он был, до революции лавку имел. А я что — веселый да голый. Одни руки. Видишь, положение какое! Глаша со всей душой ко мне, и я без нее не могу, так отец — стеной промеж нас. Я Глаше толкую: раз отца не переиначишь, то один выход — идти поперек его отцовской воли. Не прежнее, говорю, время, чтоб во всем исполнять волю родителей. Сами хозяева. Не пропадем, говорю: четыре руки, две головы, да любовь-душа посередке. Она слушает, кивает, но пуще всего отца страшится. Отец-то, когда увидел, что не по его выходит, вконец освирепел. «Кнутом, кричит, забью! На порог родного дома не ступишь!» Видишь, зверюга какая! Недаром что новой власти уже боле десяти годов было.
Ну, что тут делать? Никак не решается Глаша поперек отцовской воли идти. Слезьми обливается. «Видно, не судьба, говорит, Проша. Отступись от меня». И что ж, Петруха, удумал я?
Дед посмотрел на меня весело. Стукнул кулаком по столу.
— Ах так, говорю я своей Глаше, не плачь тогда обо мне, не лей горючи слезы, прощевай, говорю, дорогая-любимая, а жизни мне без тебя все равно нету. Забежал я в церковь да скорей по лесенке — на самый верх. Схватился рукой за колокол, на самый краешек встал и кричу: — Прощавай, Глашенька!
— Прыгнул? — со страхом спросил я.
— А как бы я, внук золотой, говорил сейчас с тобой? Да и на свете не было бы тебя… Услышала Глаша, обмерла, руки вверх вскинула. «Прошенька! — кричит. — Пожалей меня!» И сама на траву повалилась.
— А что потом?
— Так мой верх и вышел. Поженились.
— Дед, — спросил я, — а если бы она не закричала? Прыгнул бы?
— Не могло такого быть. Должна была закричать. Она же любила меня.
— А если бы не крикнула все-таки? — допытывался я.
— Да кто ж его знает, — невесело усмехнулся дед. — Ведь под горячую руку… Мог бы и сигануть.
Мне рассказ его здорово понравился. Вот это дед у меня! У кого еще такой есть!
— Ну а дальше? — говорю я деду.
— А дальше история долгая. Прожили мы с Глашей сорок шесть годов, за вычетом двух лет и двух месяцев — это как по причине сильной контузии головы и нахождения в правом боку осколка немецкой мины признали меня полностью негодным к продолжению героических сражений с фашистскими гадами. Из армии списали, ну, а старухе моей, на ее великую радость, даже и в таком сильно поврежденном виде вполне я сгодился. Только в ту пору была Глаша, ясное дело, не старуха, а очень даже завлекательная и душевная женщина она была. Так и жили. В чины я, правда, не выбился — конюхом был, ездовым, а после до нонешнего времени пастухом состоял, но Глаша, врать не стану, в обиде на меня не была и словом никогда не попрекнула. И прожили мы с ней эти сорок с лишним годов, как один день. В мире, в согласии, а уж говорить-говорили и все никак наговориться не могли. Я тебе, внук золотой, так скажу: если бы все слова, что мы с Глашей друг дружке сказали, написать бы в одну строчку, то протянулась бы эта строчка до самой Луны, кругом нее обвилась три раза и опять бы вернулась на ту же нашу землю.