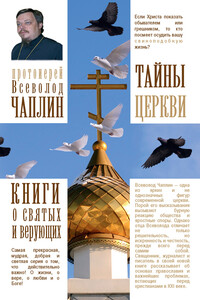Православие. Честный разговор | страница 108
В обществе, где нет нравственной доминанты, человеческая греховность все равно возьмет верх. Алчность и желание богатеть не работая приведут «традиционную экономику» туда же, куда она однажды уже пришла, – к несправедливому царствованию денег над людьми и их трудом. Стяжательство и несвобода похоронят любой новый коммунистический эксперимент, как они похоронили советский. Более того, любые социальные или экономические конструкции неизбежно рухнут, если не будут соединены с нравственным воспитанием. Левые критики глобализации никак не могут понять, что человек вовсе не «хорош» сам по себе и в свободном состоянии склоняется ко злу, подчиняя ему и экономику. А заставить его стать «хорошим» силой, как это пытались сделать коммунисты, можно лишь на время.
Выход из порочного круга, на мой взгляд, только один: людям нужно мощно открыть ту истину, что деньги, прибыль, потребление – не главное в жизни. Экономика не должна рулить обществом. Уровень жизни общества нужно оценивать не в долларах, рублях и цифрах роста ВВП, а в категориях человеческого счастья. Которое, между прочим, подчас обратно пропорционально количеству денег. И уж точно немыслимо без нравственного измерения жизни. Без чистого сердца, без мирного духа, без спокойной совести.
Владимир Карпец однажды сказал о «пути Запада от Августина к Жаку Аттали». Насколько этот путь начался именно с блаженного Августина, которого Е. Н. Трубецкой назвал «отцом западного христианства во всех главнейших его разветвлениях» – не только католическом, но и протестантском? Известно, что Августин, бывший в свое время манихеем, потом решительно обличал это дуалистическое мировоззрение. Впрочем, тот же Трубецкой пишет, что единство, которое Августин противопоставляет манихейству, есть «единство насильственное, внешнее», а метафизика его «при всем своем внешнем единстве и стройности… двоится». Разделяя «град человеческий» (мир сей) и «град Божий» (Церковь), Августин, согласно Трубецкому, излагает «учение об авторитете Вселенской Церкви как временном, земном явлении Боговластия в порядке социальном». И, по мнению С. С. Аверинцева, «для Августина Церковь – это «странствующий по земле», бездомный и страннический «град», находящийся в драматическом противоречии с «земным градом» и в драматическом нетождестве себе самому (потому что многие его враги внешне принадлежат к нему)».
Итак, получается, что Церковь и мир – это реальности противоположные, разнонаправленные, но параллельно присутствующие в одном пространстве. А значит, борющиеся за обладание им, за власть. Вся история западного христианства и была такой борьбой. И христианство не могло не потерпеть в ней поражения, особенно потому, что все больше и больше использовало оружие противника, которое тот сам изобрел и с которым долго упражнялся, а значит, гораздо лучше им владел. Оружие это – эгоизм, цинизм, беспринципность, безразличие к людям. Мы, христиане – если только мы таковыми останемся, – никогда не сможем использовать это оружие быстрее и ловчее, чем «мир сей».