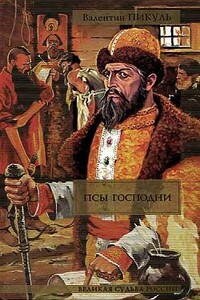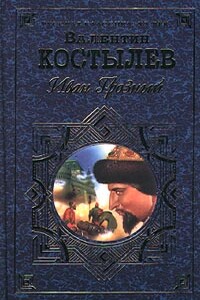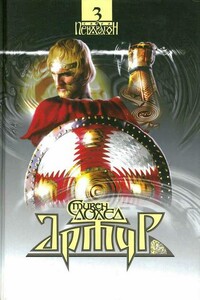Иван Грозный. Том II. Книга 2. Море (части 2-3). Книга 3. Невская твердыня | страница 66
Нет! Не это понудило его к бегству.
Но что же тогда?
Над этим с тоскою много думал днями и ночами царь Иван и никак не мог объяснить себе причины бегства Курбского.
Сотник Иван Истома Крупнин возвращался из Кремля, где держал со своею сотнею караул. Усталый, расстроенный начавшимся преследованием вельмож, заподозренных в крамольной связи с Курбским, он мечтал отдохнуть дома от всего слышанного и виденного. День ото дня тяжелее становилась служба, а время свое берет — седьмой десяток! Старые раны, полученные под Казанью да под Нарвой, дают себя знать: нет уже прежней расторопности, да и память уж не та. Старость. Не страшно стало думать и о смерти. Раньше боялся, теперь — все равно. В Москве — уныние, великий пост, хотя и не время ему. На всех папертях бьются в плачах кликуши и юродивые. В притонах прячутся воры и темные неведомые люди, подсылаемые Литвой. Ловят их, секут им без толку головы, но их не убывает. Да и что это за люди? Откуда они? Князья и бояре тише воды, ниже травы, и это не к добру. Ходят слухи о раскрытии заговора. Каждую ночь кого-нибудь тащат под Тайницкую башню на допрос. Крамола живуча. Грязновские молодцы бешено носятся по московским улицам, а после них осиротелые семьи плачут. Нет уж, видать — пора на покой, отслужил свое старый стрелецкий сотник, отслужил трем государям честно, безответно. Пора и честь знать. Эх, и жизнь! Худого — пудами, а хорошего — золотниками.
А тут еще и с дочерью Феоктистою беда. Пришлось тайно увезти ее из грязновского дома. Пало великое горе на отцовские седины. Не слюбились. Дочь ведь родная, не чужая. Кабы чужая — Бог с ней! А то свое любимое, родное дите. Срамота! Стыдно будет в глаза людям смотреть. Да и грех великий! Слыханное ли дело! Высек розгами, пожурил, в моленной трое суток на коленях продержал, а позор все ж остается. Никакое худо до добра не доводит.
У ворот своего дома сотник помолился на все четыре стороны, осмотрел сваленную ветром изгородь, что избоченилась по берегу крохотной Синички, полюбовался закатом, безоблачным, нежно-розовым, напоминавшим о далеких днях мирной московской жизни, когда молитва и отдых были овеяны покоем и беспечностью, и вошел в дом.
Но только что закрыв за собою дверь, шагнул в переднюю горницу, как к ногам его упала дочь Феоктиста.
— Батюшка, родной мой, прости меня, супротивную, — всхлипнула она, уткнув лицо в сиреневый сарафан. — Не житье мне уже на свете, пожалей меня, несчастную, горемышную… Руки на себя осталось наложить.