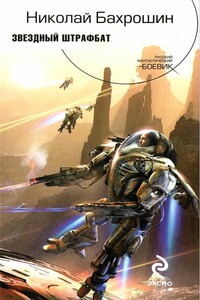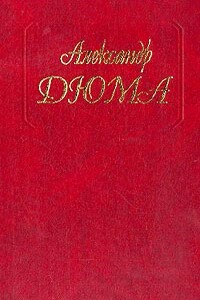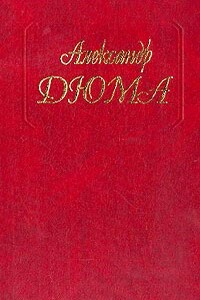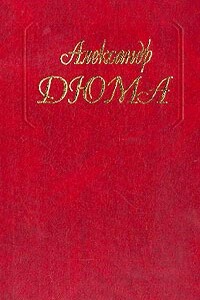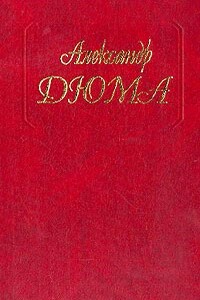Месть базилевса | страница 51
Из таких снов выныриваешь как из обморока – в липком поту и с отчаянно бухающим сердцем.
Мамка Сельга очень сердилась. Сказала – еще раз вскочишь, велю мужикам примотать тебя к лежанке кожаными ремнями.
Она может! И примотают. Так что снова пришлось лежать, разглядывать сучки на тесаном, потемневшем от времени потолке, перекатывать в голове бесконечные, иссушающие думы. Волком выть впору, зубами скрипеть от собственного бессилия! Он – здесь, дома, валяется как колода под присмотром и заботой матери, а она, Алекса, где-то там… Милая, нежная, желанная его… В далеких землях, в чужих руках…
Ему ли не знать, что значит рабская доля, когда не видишь ни синевы неба, ни зелени листвы, ни сияния солнца. Когда весь мир вокруг окрашивается темным и серым от горечи постоянного унижения.
Да жива ли? Выдержит ли? Не истает ли тоской и бессилием неволи, не наложит ли на себя руки, не видя другого спасения?
От таких вопросов у самого вздрагивало внутри. Не только своей болью болел, ее, воображаемой, ничуть не меньше. Может, потому и раны долго не заживали, что за двоих мучился. Сам это понимал, только успокоиться все равно не мог. Бежать, разыскать, спасти! Или – отомстить, принести головы убитых врагов, вытряхнуть как сор из мешка на ее могилу.
Воины моря называют месть священным огнем, что разжигают в человеческом сердце сами боги. Его не потушить водой, хоть вылей целое море. Огонь – да, правильно называют! Самому казалось, от этого огня он словно обуглился за долгую зиму. Почернел, наверное, как головешка. Если б хоть мог уйти за ней вслед, двигаться, действовать, искать ее – все было бы легче. Но как идти, если шаг шагнешь, а на следующем уже дрожат колени и подгибаются ноги? Куда идти, если зима замела все тропы такими сугробами, в которые проваливаешься по пояс даже на широких, подбитых ворсистыми шкурами лыжах охотников?
Старики оказались правы – зима выдалась лютая и многоснежная. То мело так густо и долго, что белые мухи, казалось, прямо на лету слепляются в комья, а то затихало, и за дело брался седой старик Карачун. До звона, до колючих иголок в воздухе вымораживал белизну лесов, и лугов, и рек, и, кажется, само небо.
Обычно родичи в начале зимы присыпают избы для тепла и спокойствия снегом по самые крыши, а тут даже не пришлось трудиться – без того насыпало как руками. И прорубь на Лаге приходилось расчищать не один раз в день, по обычаю, а два или три. Как-то Ратмир оступился, исполняя урок в свой черед, макнулся по колено в воду – так домой прибежал словно в ледяных сапогах. Отогревал потом ноги на горячей печи, во весь голос ругался от боли ломким юношеским баском. Покосится на лежащего брата, подмигнет весело и опять давай крыть все подряд – зиму, мороз, прорубь клятую, как и того недоумка, что наплескал вокруг проруби до скользкого льда. Сельга, конечно, шлепнула его по губам, чтоб не поганил избу дурными словами (рука у мамки маленькая, но быстрая на расправу), а сама глазами смеялась.