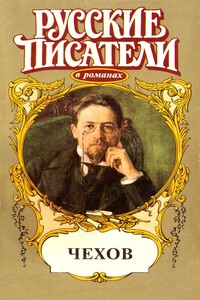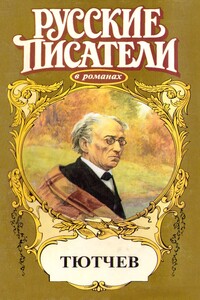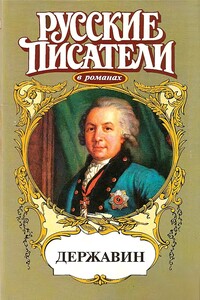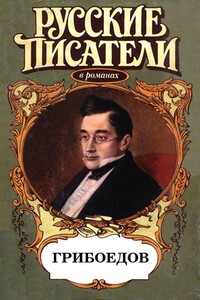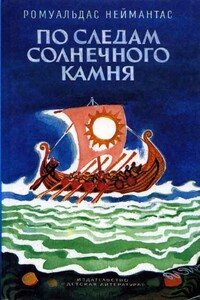Игра. Достоевский | страница 8
И всё же сквозь путаницу этих идей просвечивало определённо и сильно растущее чувство восторга и света. Ярким был этот свет, был жарким этот восторг, от прикосновения к тому давнему имени пламенней разгорались ищущие истину мысли, ясней и чище становилось в омытом восторгом уме, освобождая его от грязных житейских забот хоть на миг. Он вспоминал благодарно и весело, что в трудной жизни его был такой человек, которого он уважал и даже боялся от чистого сердца, что тот человек скажет о нём, продолжал уважать и бояться и будет уважать и бояться, должно быть, всегда, даже не соглашаясь, даже споря яростно с ним.
И вот, чёрт возьми, обречён спозаранку стеречь у дома обиралы-процентщика, чтобы выпросить у сквалыги хоть гульденов двести за свою последнюю вещь, до которой не имел права касаться и которую до сей поры не посмел заложить. Он метнул на ту сторону бешеный взгляд. Ставни уже растворялись рыжеватым мальчишкой в противных немецких коротких штанах.
А, наконец! Переходя из успокоительной тени на свет, прищуривая глаза от слепящего солнца, он пересёк наискось неширокую уличку и толкнул толстую, тоже железную, дверь.
Она взвизгнула в нарочно не смазанных петлях. Стальной колокольчик захлебнулся над его головой.
От дрянного дрезжания стало позорно и зло на душе. Фёдор Михайлович негодующе огляделся.
За высоким прилавком неподвижно белело нездоровое, мучного цвета лицо.
Он шагнул как с обрыва и дрожащей мелко и видно рукой положил перед этим неподвижным лицом свои обручальные кольца.
Лицо приняло их небрежными цепкими пальцами, скользнуло по вечным символам нерушимого брака тёмным влажным глазком ловко взброшенной лупы и опустило на чашку бесстрастных весов. Равнодушный дискант сказал:
— Сто гульденов, герр.
Он изумлённо сбивался: талеров шестьдесят шесть или семь, рублями, кажется, семьдесят пять. Да это открытый грабёж! Он беспомощно понимал, что сюда, в этот вертеп, с глухими железными, стальными полосами укреплёнными ставнями, с такими же глухими дверями и сплошным высоким прилавком, похожим скорей на редут, из тех, какие он вычерчивал в Инженерном училище, приходит только наипоследняя, самая злая нужда и по этой причине здесь бессмысленно было бы ждать сострадания, честности, совести и чего там ещё? Но он внезапно подумал, как до последней минуты думал всегда, что и самое чёрствое, даже стальное или там алмазное сердце не могло же вот так, без следа хотя бы малейшего слабого стона выдержать ежечасное зрелище стольких страданий, стольких последних утрат, что должна зарониться в него хоть ничтожная капля, хотя бы бледная тень человеческой жалости. Ведь человеку доступно понять человека. Ведь он своё обручальное счастье принёс, не золотые крючки от штанов.