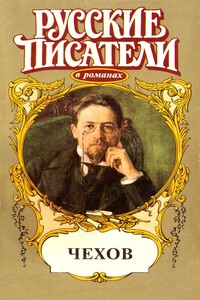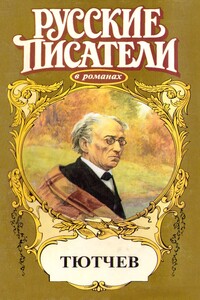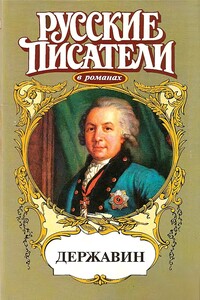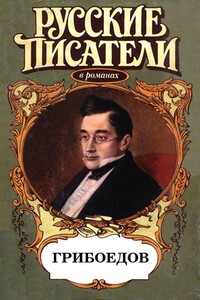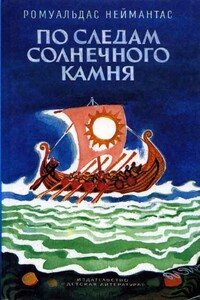Игра. Достоевский | страница 6
Он видел, что железные ставни всё ещё не открыты, и порывисто, озабоченно думал о том, что вновь бросил ради проклятой игры самую спешную, главное, давно уж оплаченную работу над, начинало казаться по временам, бесконечной статьёй. Эти беспрестанные остановки мешали, сбивали, расслабляли и бесили его. Начатое любовно и страстно могло захиреть и остыть, а он, и тоже под самое крепкое, самое честное слово, обязался прислать два-три печатных листа, и все мыслимые и немыслимые сроки давно проходили, и ядовитая совесть неустанно грызла его, не давая покоя душе, и что бы ни делал, чем бы ни занимался, даже во сне, имя Белинского, о котором эта вперёд, за бедные деньги, проданная статья, не выходило у него из ума.
Он, впрочем, мимоходом заметил, что утро взыгралось ясным и чистым. Любоваться бы, наслаждаться бы им! Однако именно это ясное утро своей чистотой ужасно мешало ему, точно напоминало, язвило его, что сам он нынче вовсе не чист, и он, клоня голову, глядел больше под ноги, на видавшие виды, обагрённые кровью, омытые потом древние камни. К его маете подходил бы вернее балтийский серенький осенний денёк.
А железные ставни продолжали тупо чернеть, словно бельма. Их освещало весёлое жаркое солнце. Его живительный свет делил эту тёмную улочку пополам. На той стороне, где он метался взад и вперёд, ещё лежала густая прохладная тень. Дым папиросы медленно таял в её неподвижной, спокойной прозрачности. Его волновало, что с годами он почти забыл внешность Белинского. Будто помнился лоб под космами светлых волос, спадавших почти всегда на глаза, будто свёрнутый в сторону нос. Он, кажется, мог бы сказать, что Белинский был щупл и зелен с лица, но скорей потому, что знал о болезни его. Впрочем, надо ли вспоминать? Ведь всё это, в сущности, но было нужно ему, его цель была выставить ярко и выпукло идею Белинского, с какого боку тут нос, но всё равно вспоминал, налево сворачивал или направо, чтобы подобная мелкая пыль пустяков потом не мешала вдохновенному жару труда. Нет, естественно, даже твёрдо припомнив, о носе он не стал бы писать, однако и то, что было позарез необходимо ему, всегда незримо жившее в нём, которое невозможно было забыть, если бы даже захотелось забыть, непрестанно менялось, и трудно было это необходимое удержать в том именно виде, в каком оно было тогда, когда он был всей душой близок и дружен с Белинским.
И вдруг на мгновение вспомнил, как это было в те подернутые дымкой забвения дни, порывистей, неровней зашагал, приближаясь всё к той же толстой каменной тумбе, источенной временем, жадно стремясь к перу и к бумаге, но, уже готовый стремительно мимо пройти, машинально скользнул взглядом по закрытым железными ставнями окнам, возвратился сердито назад и опять забыл то, без чего никак не выходила статья.