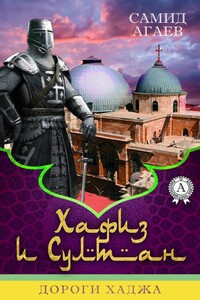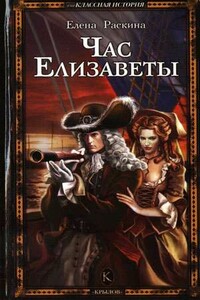Возрождение | страница 12
— Расстроен ли Рочестер?
— Немного, но мужчина в его годы (ему уже сорок два), который может рассказывать историю о себе самом три раза подряд, скоро утешится, так что я не огорчаюсь.
— А что сказал Джим?
— Он был в восторге. Он сказал, что знал, что это кончится таким образом — дайте сорокадвухлетнему мужчине достаточный кусок веревки и он наверняка повесится сам — сказал он, и, о, Николай! Джим — душка! Он становится совсем властным. Я обожаю его!
— Чувства убеждают, Нина! Женщины любят только превосходящих их физически.
Она сияла. Никогда она не казалась столь желанной.
— Мне наплевать, Николай! Я знаю, что если это чувства — то они лучшая вещь на земле, а женщина в мои годы не может иметь все. Я обожаю Джима! Мы повенчаемся как только он снова сможет получить отпуск, и я «устрою», чтобы он стал «краснокрестником» — он повоевал достаточно.
— А если тем временем, его искалечат, как меня, что тогда, Нина? — Она побледнела.
— Не будь так отвратителен, Николай!.. Джим!.. о!.. я не могу вынести этого! — и будучи строгой протестанткой, она перекрестилась — чтобы не сглазить.
— Не будем думать ни о чем, кроме счастья и радости, Нина… но для меня ясно, что тебе лучше было бы провести недели две на морском берегу.
Забыв об этом намеке, она устремила на меня свои удивленные карие глаза.
— Знаешь, чтобы привести себя в равновесие, когда чувствуешь, что влюбляешься, — напомнил я ей.
— О! Все это чушь и ерунда. Теперь я знаю, что обожаю Джима. До свиданья, Николай, — и обняв меня, как мать, сестра и друг, она снова вылетела на лестницу.
Буртон принес мне слабый джин и сельтерскую воду, стоявшие рядом на подносе, я выпил их, сказав себе — за процветание чувств! — а затем телефонировал Сюзетте и пригласил ее к обеду.
У Сюзетты на левой щеке высоко около глаза, есть родинка, а на ней три черных волоска. До сегодняшнего дня я не замечал их. Кончено! Я не могу больше!
Конечно, у всех нас есть родинки с тремя черными волосками и ужасен тот момент, когда их замечают. Разочарование — трагедия жизни.
Я не могу не быть страшно самоуглубленным. Морис будет согласен со всем, что я не скажу, так что с ним не стоит и разговаривать, — и я бросаюсь к этому дневнику — он не может взглянуть на меня любящими водянистыми глазами, полными укора и неодобрения, как это сделал бы Буртон, если бы я обратился к нему.
Время было слишком беспокойным для того, чтобы писать, вот уже два месяца, как я не открывал эту тетрадь. Но ведь не может быть, не может быть, что мы будем разбиты. О Боже, почему я не могу снова стать способным сражаться мужчиной.