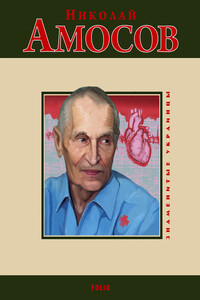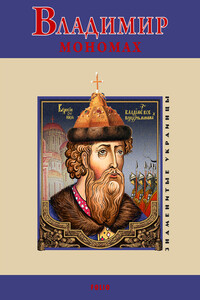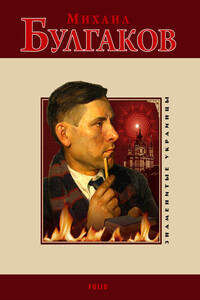Григорий Сковорода | страница 43
Непосредственным продолжением «Нарцисса» стала «Симфония, нареченная Книга Асхань, о познании самого себя», которую Сковорода написал здесь же, в Гужвинском лесу. Только на этот раз философ взял за основу историю, рассказанную в пятнадцатой главе Книги Иисуса Навина. «Дух велел мне, – говорит он в начале, – пусть эта книга наречется "Асхань"». «Асхань – дочь Халева, вошедшего в землю обетованную. Значит, красота». Значение этого имени толкователи Библии связывают со словом «браслет, цепочка на ногах». О красивых браслетах на ногах дочерей Сиона говорил пророк Исайя: «и звенят цепочками на ногах своих», «отнимет Господь красивые цепочки на их ногах…». Возможно, именно под влиянием этих стихов Сковорода и связал имя Асхань со словом «красота». И досталась эта Асхань-«красота» брату Халева Гофониилу в награду за то, что он завоевал город Девир. Асхань – это «Премудрость Божия, сокровенная в глубинах Библии», а всем, кто познал ее, будет она невестой… Снова перед нами, как и в «Нарциссе», – божественная любовь, познание, София-Премудрость, красота… Наконец, и круг персонажей здесь тот же: Друг, Лука, Памва, Клеопа, Филон, Конон и другие. Вот, например, alter ego самого Сковороды – Друг. Глубокий ум, прекрасное образование, тонкое-тонкое ощущение присутствия Божьего в мире… А еще Клеопа говорит о нем Филону, что у него доброе сердце и он никогда не чурается «простаков», то есть обычных хлеборобов, таких, как они сами или Конон. И это чистая правда. Даже более того: как свидетельствовал Михаил Ковалинский, наш философ «неохотно входил в беседу с незнакомыми» только тогда, когда это не были простые люди. Правда, Филон поначалу в это не очень верил. «Я знаю многих ученых, – говорит он. – Они горды. Не хотят и говорить с поселянином». Но совсем скоро он изменит свое мнение и станет со вниманием прислушиваться к словам Друга. Поначалу он только молча слушает, а потом и сам вступает в разговор. «Ах, Конон! – восклицает он. – Нам бы молчать надобно и слушать. Но за тобою и я не умолчал. Нас, простаков, называют скотинами. Но дал бы Бог, чтоб мы немного пороков имели! По крайней мере, будем беззлобны».
О каких же философских вопросах говорили персонажи и этих, и других произведений Сковороды? Прежде всего о «двух натурах» всего сущего: видимой и невидимой. На манер Платона и неоплатоников философ определял «невидимую натуру» как то, что является «в дереве истинным деревом, в траве травою, в музыке музыкою, в доме домом…». Одним словом, это Бог. В свою очередь, «видимая натура», то есть материя, – не что иное, как тень натуры невидимой. «Вся исполняющее начало, – говорит Сковорода в трактате «Силен Алкивиада», – и мир сей, находясь тенью его, границ не имеет. Он всегда и везде при своем начале, как тень при яблоне. В том только разнь, что древо жизни стоит и пребывает, а тень умаляется; то преходит, то родится, то ищезает и есть ничто». И каким-то непостижимым для понимания образом видимое и невидимое существует в любой вещи. Это точно так же непостижимо, как единство человеческой и Божьей природы в Христе. Недаром же Сковорода не раз пытался описать способ единения в вещах видимого и невидимого с помощью парадоксальных терминов христологического догмата: в каждой вещи, говорит он, видимое и невидимое живет «нераздельно и неслитно».