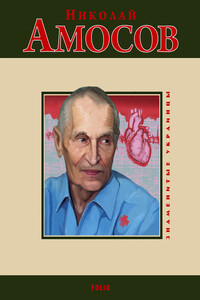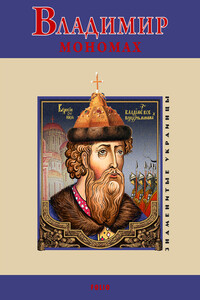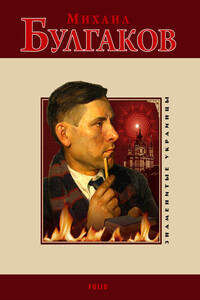Григорий Сковорода | страница 39
Спустя некоторое время, летом 1774 года, когда Сковорода жил уже в Бабаях, он в своем посвящении цикла «Харьковские басни» Афанасию Панкову припомнит следующее: «отстав от учительской должности и уединяясь в лежащих около Харькова лесах, полях, садах, селах, деревнях и пчельниках, обучал я себя добродетели и поучался в Библии, притом, благопристойными игрушками забавляясь, написал полтора десятка басен…». Вот так наш странствующий философ стал «отцом» украинской басни.
Конечно же, басня была хорошо известна в Украине задолго до того, как Сковорода уединился на лоне чудесной слобожанской природы. Например, еще в первой половине XVII столетия Мелетий Смотрицкий упоминал сюжет о Волке и Ягненке в своем трактате «Верификация невинности», Иван Дубович в трактате «Иерархия» ссылался на Эзопа, а позднее теорию басни подробно рассматривали в школьных курсах поэтики. Вот что, скажем, писал Феофан Прокопович о композиции басни: «Басня обычно делится на две части: промифий, то есть начальный рассказ, или фабула, и эпимифий – толкование, в котором прямо указано о том, чему учит басня». Особенно любили басни старые украинские проповедники: в одних только сборниках Антония Радивиловского «Огородок Марии Богородицы» и «Венец Христов» можно найти около двух десятков сюжетов басен. Но до этого басня существовала всего лишь как вкрапление в другие произведения, тогда как Сковорода сделал ее, так сказать, «независимой». Басня для Сковороды – это умная забава, что-то вроде картинки, которая «снаружи смешная, но внутри прекрасная». Без сомнений, наш философ еще со времен юности помнил слова знаменитого римского баснописца Федра:
А сам Сковорода, говоря о природе басни, ссылался на «древних любомудрцев», прежде всего на своего любимого Сократа. «Ни одни краски, – писал он в посвящении к «Харьковским басням», – не изъясняют розу, лилию, нарцисс столь живо, сколь благолепно у них образуется невидимая Божия истина, тень небесных и земных образов. Отсюда родились hieroglyphica, emblemata, symbola[6], таинства, притчи, басни, подобия, пословицы… И не дивно, что Сократ, когда ему внутренний ангел-предводитель во всех его делах велел писать стихи, тогда избрал Эзоповы басни».