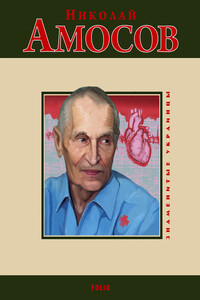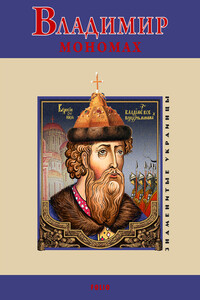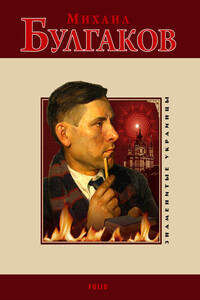Григорий Сковорода | страница 35
В целом, Сковорода-поэт обращался преимущественно к тем мотивам, которые были самыми популярными в метафизической лирике украинского барокко: море света, жизнь – дорога, мир как театр, человеческое «разнопутье». Довольно часто всплывает у него и мотив призрачности мира и суеты преходящей человеческой жизни, то есть мотив смерти, который можно считать «царской дорогой» украинской барочной поэзии. Кроме того, в поэзии Сковороды звучат мотивы умиротворения, счастья, деревенского рая, Христовой бедности. Однажды, а именно в стихотворении «De libertate», появляется и мотив «золотой вольности». В этом кратком стихотворении, которое, очевидно, является отрывком какого-то большого произведения, Сковорода, прославляя борьбу Украины за свободу, рисует образ Богдана Хмельницкого как «отца свободы», избранника Божьего, который твердой рукой выводит свой народ из неволи.
В жанровом отношении поэзия Сковороды тоже довольно разнообразна. Здесь есть рождественские и пасхальные песни-канты, эпиграммы, элегии, панегирики, приветственные песни, в частности генетлиаконы (стихи ко дню рождения), духовные и светские оды, эмблематические стихотворения, стихотворные фабулы и т. д. Заметное место в поэзии Сковороды занимает, например, эпиграмма – один из популярнейших жанров украинской барочной литературы, с присущими для него внутренними рифмами, аллитерациями, ассонансами, повторами тематических слов. Большая часть оригинальных и переводных эпиграмм Сковороды написана на латыни. Пожалуй, одной из самых любимых эпиграмм поэта была «Inveni portum…» («Найдена гавань…»), на которую он наткнулся в популярном романе французского писателя Алена Рене Лесажа «Жиль Блаз» и создал целый ряд вариаций на эту тему. Вот одна из них:
Наверное, именно в поисках этого желанного покоя Сковорода и проводил свое время, находясь в Харькове или где-то неподалеку, например, в Куряжском монастыре, расположенном в очень живописной местности в восьми верстах от Харькова по дороге на Полтаву и Киев, или в «Купянских степях». Хотя, очевидно, бывало по-разному. По крайней мере летом 1767 года философ, нанизывая оксюмороны, писал Михаилу Ковалинскому о том, что он сейчас живет в Куряже, «в уединении – не один, в бездействии – за работой, в отсутствии – присутствует, в крушении – невредим, в печали – доволен», и все же крайне растерянный. Об этом свидетельствует и сама стилистика письма – какая-то расшатанная, эмфатическая, напряженная… «Столь нечаянный вихрь, – пишет Сковорода, – выхватил меня с Купянских степей, что, кроме ютки да бурки кирейной, ничего не взял. Об этой буре после поговорим». Что же это была за «буря»? Никто не знает. Но где-то, скорее всего летом 1833 года, знаменитый ученый-славист Измаил Срезневский записал со слов одного слобожанского старожила историю о том, как Сковорода бежал из церкви прямо из-под венца. Правда, это приключилось, если верить рассказу, не в «Купянских степях», а где-то под Валками, и не в 1767-м, а в 1765 году. Так или иначе, Срезневский положил эту историю в основу своей повести «Майор, майор!». Якобы жил на одном из валковских хуторов одинокий отставной обнищалый майор. И была у него миловидная дочка Елена, которую он нежно называл Лёней. И тут в их жизнь вошел Сковорода. Дело в том, что здоровье у майора было неважное, поэтому философ, поселившийся по соседству на пасеке, стал его лечить. Он часто наведывался на хутор и завоевал симпатию его хозяина. И не только его. Юная панночка также не осталась равнодушной к этому уже пожилому мужчине. Говорят, что Сковорода обычно не слишком уверенно чувствовал себя в компании женщин, и особенно – молодых и красивых (едва ли не единственной светской женщиной, с которой у него были приятельские отношения, была жена хозяина Пан-Ивановки Андрея Ковалевского – отчима будущего основателя Харьковского университета Василия Каразина). Но однажды в разговоре с майором философ завел речь о том, что надлежащее воспитание нужно всем, в том числе и женщинам, и майор, воспользовавшись случаем, попросил его немного позаниматься с дочерью. Сковорода не без колебаний согласился. Он читал девушке книги и собственные рукописи, учил духовным песням. А вечерами они гуляли «по берегу Мжи, любовались природой, закатом солнца, луной на мраморном небе, которое на нашей Украине высокое, светлое и прозрачное, словно душа невинной девушки, любовались мириадами звезд»… Сперва Лёня полюбила философа как своего лучшего друга и советчика, а потом не заметила, как в сердце вспыхнула настоящая любовь. Сковорода также был очарован этой девушкой. И хотя философу было ой как непросто отважиться на такой решительный шаг, он все же поклялся «быть хорошим мужем Лёне, угождать ей, любить ее, сделать ее счастливой». И они пошли под венец. Но когда священник взял за руки жениха и невесту и спросил: «По доброй ли воле связываете руки свои?» – Сковорода неожиданно вздрогнул, выдернул свою ладонь, подбежал к алтарю и, упав на колени, воскликнул: «Господи! Я грешен перед ликом Твоим! Помилуй меня!». Одним словом, он сбежал прямо из-под венца. Сковорода, если же, конечно, именно он герой легенды, предстает в роли Алексея, человека Божьего – одного из популярнейших героев христианской агиографии, – который в первую брачную ночь бежит куда глаза глядят. Побег из-под венца – символ отречения от мира, самый яркий, какой только можно себе представить…