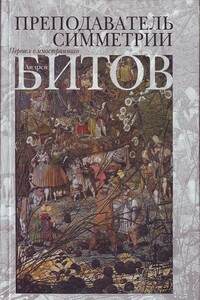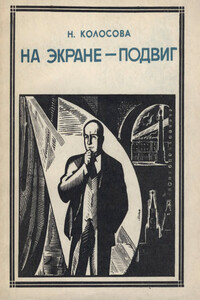Текст как текст | страница 57
– Между Соловками и Соловками? У Толстого?
– У Толстого, да. Это было самое мягкое, так сказать, время. С запретом жить в шести городах Союза. Я выбрал Тулу, там еще была Александра Львовна жива, и она меня действительно поселила в деревне, против пруда усадебного. Потом второй раз перерыв между лагерями и тюрьмами – был я сослан уже в Архангельск, – а уже потом пошли сплошняком. Уже лагеря. Впрочем, длительное время я был в ссылке красноярской, на Енисее, в селе Ярцево. Вот тут мои охотничьи познания и привычки помогли: я жил тем, что промышлял белку и ондатру. Мне далеко не сразу дали пользоваться ружьем, поэтому я охотился с капканами, с разными западнями хитрыми. А потом мне разрешили, и я уже нормально белковал и добывал ондатру.
– Это какие уже были годы?
– Послевоенные. Я досидел там до смерти Сталина, до пятьдесят третьего.
– И вам разрешили ружье?.. А помните уже наше с вами время, Олег Васильевич, лет этак через тридцать, восемьдесят третий, восемьдесят четвертый… когда у вас ружье отобрали?
– Да, это был какой-то отклик… Уже вжившись в спокойную свою, мирную московскую жизнь, я испытал такое очень неприятное чувство, когда ко мне пришла милиция и сказала, что ружье охотничье у меня… и у меня его отобрали. Сказали, что вышло постановление изъять оружие у всех сидевших. Я предъявил свои реабилитации… это не произвело впечатления.
– После этого случая вы их застеклили? Знаю, вы канцелярию не любите, все ненужные бумажки рвете. Вот недавно билет из Швейцарии порвали, а он вам для отчета был нужен… А как-то прихожу к вам, может быть, это было ваше восьмидесятипятилетие, и вижу все ваши реабилитации в рамке, под стеклом, как в красном уголке, такая рамка…
– Да, это мне племянник к юбилею постарался…
– Как почетная грамота, как диплом – лагерные фотографии и реабилитации, штук шесть…
– Пять. Фотографии не помню, но там пять документов.
– Я думал, шесть…
– Пять. О реабилитации, да. Это была для самолюбия трудная история, но потом, поскольку сам начальник НКВД города Москвы извинялся передо мной и ружье мне принесли эти же милиционеры домой, то я, так сказать, подзабыл это, этот последний, так сказать, резонанс…
(Мне кажется, я точнее помню эту историю… Я никогда не видел Олега Васильевича таким, как в тот день, когда у него отняли ружье. Я могу лишь гадать, что значит оно для охотника, но символику этого оскорбления человеческого, мужского, дворянского, наконец, достоинства представить себе нетрудно. Олег Васильевич тогда только что перенес тяжелую операцию и еще один раз в жизни выдюжил, выкарабкался. Но ходить ему еще было нельзя, а тут – ружье… и он пошел все к тому же «парадному подъезду», к начальству, какое у нас есть, в Союзе писателей. Для начальства это был приятный случай: не машина, не квартира, не дача – одно лишь проявление гуманности с возможностью употребить всех подчиненных по цепочке. О, эта гуманность, обеспеченная нашими необъятными залежами! – валюта начальства – можно не сделать что-либо, а «поправить ошибку». И возвращали ружье не совсем так, как обещали. Позвонили и сказали: «Заберите ваше ружье!» – «Нет, голубчики, – сказал охотник Волков, – вы забирали, вы и принесите». В общем, не враз он его получил. Но раз «сам начальник НКВД», то что ж мелочиться – победная вышла история. Но и не такой уже первый или последний был этот резонанс былого).