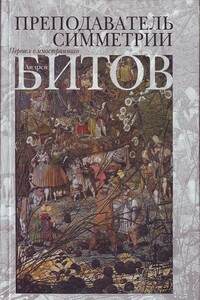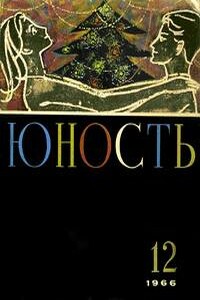Текст как текст | страница 49
– Кто это, ты?
– Что это, я не мог тебя узнать.
– Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!
– Кончена жизнь!
– Жизнь кончена.
Но это был еще не конец…
«Я смотрел внимательно, – пишет Жуковский, – ждал последнего вздоха; но я его не приметил. <.. > Так тихо, так таинственно удалилась душа его».
Далее следует поразительная страница описания лица поэта.
Жуковский остается с ним один на один.
«…руки <…> как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда».
«Мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?»
«…никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».
Эта страница письма отцу поэта есть точная прозаическая копия известного его стихотворения на смерть Пушкина; на наш взгляд, самого нежного поэтического отклика на смерть Пушкина:
Но у Пушкина уже был близкий образ… В стихотворении «Труд» (1830):
Момент послесмертия Пушкина, так точно “зарисован-ный” Жуковским, тут же переходит в Бессмертие.
Начинаются таинственные, вовсе не до такой степени оправданные опасениями Третьего отделения, перемещения мертвого поэта, начинается музей…
А.И. Тургенев, сопровождавший тело Пушкина, пишет в дневнике:
«6 февраля. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез <…> и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское <…> Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его…».
Только сровнялась могила Пушкина – и первая экскурсия по “памятным местам” – залог нынешнего заповедника.
Пушкин не оставил нам прощального стихотворения. Это за него сделал Лермонтов, открыв свою собственную поэтическую Судьбу. Он не ведал о существовании пушкинского «Памятника» и возвел ему свой… Кончились школьные переложения из учителя, сколь бы вдохновенны они ни были (большинство поэм до 1837-го). Лермонтовское «Смерть поэта» все зиждется на реминисценциях из поэта оплакиваемого (VI глава «Евгения Онегана», «Андрей Шенье»…) – поверхностного параллельного чтения VI главы и «Смерти поэта» достаточно, чтобы в этом не усомниться. “Хладнокровно – ровно”, “убит!”, “увял” – Лермонтов сам отсылает нас к Ленскому, воспетому “им с такою чудной силой”, – но, именно при столь прямых заимствованиях, сколь напоено стихотворение Лермонтова внезапной и самостоятельной поэтической силой! И «Памятник» Пушкина, который потомки постепенно назначили “завещательным” стихотворением за неимением такового, и «Смерть поэта» Лермонтова – одинаково сложены, скроены из предыдущих стихов и мотивов Александра Сергеевича, но пушкинское, будучи “про себя”, этим же и сковано, так и осталось сложенным из “блоков”, а лермонтовское – сплавлено великим чувством, энергией новорожденного гения. Оно воспламенено тем чувством, которое возможно выражать лишь в отношении другого, не в отношении себя.