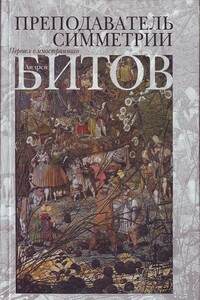Текст как текст | страница 47
Подвиг кончился. Осталось уже последнее дело жизни – умереть достойно. Это несравнимо с предыдущим грузом. Смешно… вздор… МЕНЯ… Пушкина.
Раз уж ТО его не пересилило, то это…
«Смешно…»
«Он мучился менее от боли, – пишет Жуковский, – нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! – иногда восклицал он, закидывая руки на голову. – Сердце изнывает!»
Что была эта тоска? О чем память? Или чего предчувст-вие? Это – тайна.
Но все сказанные им слова – последней точности: «Смерть идет».
«Нет; мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо».
«Долго ли мне так мучиться? пожалуйста, поскорее».
«…скажи жене, что все, слава Богу, легко…».
«Я думаю (умереть), по крайней мере, желаю».
«Ну, ничего, слава Богу, все хорошо».
И слова – высшей точности: «Кончена жизнь! Жизнь кончена».
Об этом нельзя писать. Тут не выкрутишься и не уточнишь. Кто мог поставить такую точную точку в конце ВСЕГО? Мало сказать – гений, надо сказать: Пушкин.
Не меньше Петра… Такое соотношение поэта с великим царем в позднейшей мировой литературе возможно лишь в России. Что на что не променял Пушкин, из всех возможностей предпочтя Судьбу, прожив свою жизнь со ссылками, царями, долгами, Третьим отделением, цензурой, невыездом за границу, камер-юнкерством, гибелью друзей, непониманием публики?.. На теоретическую мировую славу (буде оказался в Европе бы…) не разменял он своего мирового значения, достигнутого в России и путем России, – своего рода трон. Насчет “мировой славы” он не заблуждался… Об этом свидетельствует его неоконченная статья «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», предшественница «Последнего из свойственников Иоанны д’Арк». «Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции», – говорит Пушкин и далее обрушивается на В. Гюго и А. де Виньи за то, что они вывели поэта Мильтона шутом (ключевое слово позднего Пушкина).
«Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то возводя их в потолок. Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека».
И далее пассаж о возможностях перевода:
«Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к преложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит подобный опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, все вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своенравного и смелого даже до бессмыслия?»