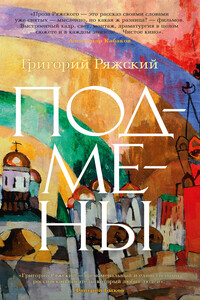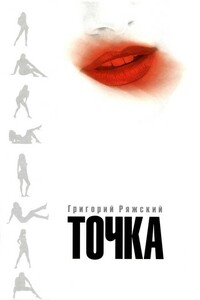Человек из красной книги | страница 70
Он сидел молча, уставившись в пол. Слушал, не перебивал и не задавал вопросов. Потом вздрогнул, будто очнулся после провала. И стал говорить, поначалу едва слышно, но затем всё больше и больше придавая голосу звучания.
– Они мне всю жизнь испоганили, такие, как твой Павел Сергеич… Ну нет от них убежища на этой земле, как же ты не понимаешь, нету… И деда твоего, выходит, даже в могиле догнали, чтобы всем нам память осквернить, вдогонку. Они же нелюди, звери, они же простые убийцы, и что страшно, не обязательно кровавые, они умеют и по-другому, по-своему, по-уродски, между делом, равнодушно, как деда нашего после смерти его. Они мои картины… – он поднял на неё глаза, и Женя увидала в них тоску, какую прежде никогда не замечала. Нет, он не плакал, это было нечто более сильное и пронзительное в своей безнадёге, чем обычные проходные слёзы. – Они их даже красть не стали, они взяли и убили их, насмерть, и не просто, а с мучениями, с издёвкой, изощрённо, чтобы ни памяти, ни следа не осталось – ничего. Я уехал от места нашей общей жизни, а вернулся в чумной барак! Лучше б сожгли, как спалили наш дом в Спас-Лугорье, а так… – он обхватил голову руками и на этот раз заплакал, не сдерживая себя больше: не было у Цинка сил хранить в себе столько лет это страшное, ненавистное ему, мерзотное, изъедающее его изнутри, не дающее роздыху уму, сердцу и его изношенным нервам.
Он резко перестал плакать, снова вскочил и уже заорал, на этот раз так громко, что в стену слева от стола замолотили кулаком, призывая прекратить бесчинство. А только Цинк, не обращая внимания на стуки, орал и орал, не прерывая себя и уже не обращая внимания на дочь, ему было важно выкричаться, выпустить из себя накопившуюся ненависть и отчаяние, избавиться от этого душного воздуха, и потому он выкрикивал, мешая в кучу всё, потеряв над собой контроль и не отслеживая никакие соседние смыслы. Он не хотел отдавать дочь этим, будучи совершенно уверен в своей правоте, потому что иначе просто не могло быть никак.
– Вы поймите, проклятые, – кричал он, – я ведь с Богом разговаривал, когда писал их, с Богом нашим, про которого вы, свиньи, ни сном, ни духом, ни рылом! Я же жил этим, страдал, я наслаждался, мечтал о добром, я искал гармонию, я хотел видеть мир лучше, ваш и мой, добрей, свободней, а вы мечту эту взяли и растоптали вместе с картинами моими! – Он снова опустился на стул, но соскользнул с него и оказался на полу, откуда продолжал безостановочно говорить: – Кто я был, кто? Я был художник, я трудился, я радовался жизни, тайно от вас, вы же всегда стояли у нас на пути. И кто я теперь, кто? Обычное ничтожество, без рук и без глаз, без любимого дела, без желания жить и творить! Мне вот сорока пяти ещё нет, а я уже старик, понимаете? Чувствую, что задыхаюсь, будто держите вы меня своим железным хватом, дышать не даёте. И мир вроде, и войны никакой нет, живи себе, трудись, зрей снаружи и изнутри, улучшай себя, люби людей, что вокруг тебя. Ан нет, не будет такого, не позволите, отыщете и снова сунете головой в грязь, по-любому. И не вырваться, не продохнуть от вас, от вашего могильного хвата простого света не хватает, всё сплошь сизое да серое, и больше никакое, будто закрыли вы собой этот свет, чтобы не пускать кого и куда вам не надо.