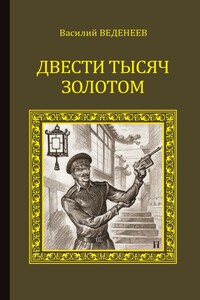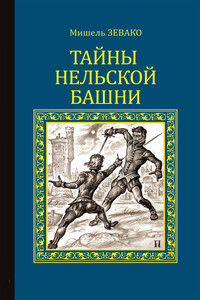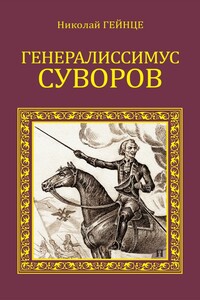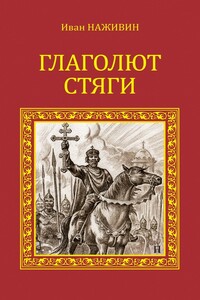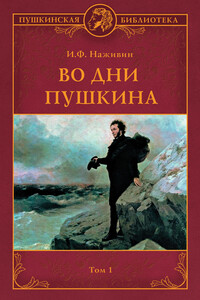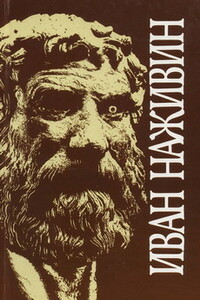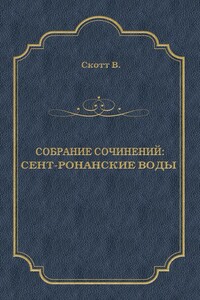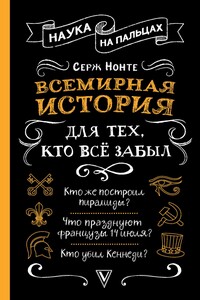Степан Разин | страница 165
Тяжелая фигура вдруг грозно выдвинулась из задних рядов. Все оторопели. Весь красный, с гневно сверкающими глазами, Степан вдруг выхватил саблю, и страшный удар в шею свалил окровавленного гонца на горячий волжский песок.
– И не сметь хоронить этого пса… – сказал атаман, тяжело дыша и вытирая саблю шелковой полой. – Пусть на съедение воронам… Чтобы другим неповадно было привозить казакам такие ответы…
Никто не пикнул.
– И чего сгрудились? Становись все на погрузку… Живо!..
Все быстро разбрелись по челнам, одобряя атамана: нешто это мысленно говорить неподобное? Это всему войску казацкому обида…
Степан сумрачно зашагал домой.
Увидев его в окно, Аннушка сперва заметалась по терему, а потом пала перед святыми иконами: Господи, спаси и помилуй!.. Все, что теперь для нее, сироты, навеки опозоренной, осталось, это монастырь или смерть. Что делать? Куда скрыться? Этот белый жидовин предлагает увезти ее в Северщину, к дяде ее, у которого там большие вотчины, но Бог его знает, что у него на уме?.. Господи, спаси!..
И крупные слезы наливались на огромных синих глазах, бежали по бледным щекам и рвали молодую грудь колкие рыданья…
Тяжелые шаги в сенях приближались…
XXVI. Тревога в Москве
Одна из целей, поставленных себе казачней, «тряхнуть Москвой», была достигнута: Москва после взятия Астрахани всполошилась, и все великое царство Российское яко море восколебало. Одни более или менее искренно сокрушались, а другие очень искренно втихомолочку радовались и ждали, затаив дух, дальнейшего.
Царь Алексей Михайлович забеспокоился, но тревожные известия о подвигах воровских казаков все же не развеяли его личного тяжелого горя: за девять последних месяцев он потерял свою Марью Ильинишну, чрез три месяца ушел за ней его сынок меньший, царевич Михаил, которого царь особенно любил, а в январе этого года и царевич Алексей. И часто Алексей Михайлович – очень растолстевший, с уже седеющей бородой, – запирался у себя в комнате и, глядя на парсуну Марьи Ильинишны, тихо плакал. И еще больше слез вызывали в нем игрушки любимого сынка, которые он запирал теперь у себя в рабочем столе: конь немецкой работы и карты немецкие ж и латы детские. Игрушки эти подарил ему, когда он ребенком был, покойный батюшка, Михаил Федорыч. Конь и карты, помнилось, были куплены в Овощном ряду за 3 алтына и 4 деньги, а латы сделал немчин Петер Шальт. А он подарил их уже своим ребятам. Нет нужды, что во дворце было больше 3000 человек челяди, что на Потешном дворе содержались тысячи драгоценных соколов и кречетов, и собак множество, и живых медведей для боев, а на конюшне стояло до 40 000 лошадей, – в мелочах царская семья была скопидомна, и конь работы немецкой служил детям вот уже полвека почитай. И царь, запершись, смотрел на игрушки маленького любимца своего, вспоминал его личико, смех звонкий, словечки милые, детские и горько плакал, а иногда тихо и усердно молился… Но и на молитве, и на заседаниях Думы боярской, среди забот государских, и в опочивальне, и ночью, и днем всегда и везде вставал перед ним образ неизвестной красавицы, которую видел он за обедней у Николы-на-Столпах. Теперь он был свободен, – точно вот по волшебству все случилось – но он не знал, кто эта красавица и где ее искать. Конечно, он мог бы расспросить как поумнее у бояр, но было срамно: что они подумают? У самого жена померла да детей двое, виски вон уже седые, а он про девок думает…