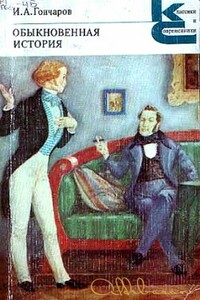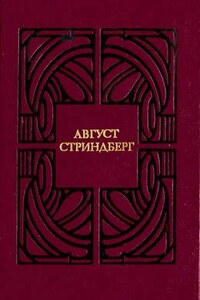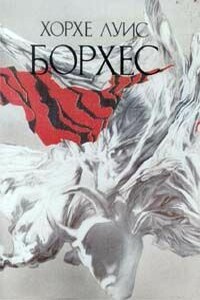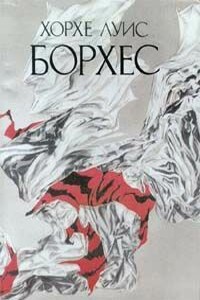Обломов | страница 16
Отношение вдовы к Обломову, равно как и ее духовные возможности, никоим образом не могут быть, конечно, идеализированы. Невозможно сравнение обеих героинь как двух личностей: они и задуманы и поданы в разных планах. Ольга вообще представлена вне всякого быта. Агафья Матвеевна вне быта и представлена быть не может. Но в формах бытовой дребедени заложен сильный идейный заряд: образ второй героини особенно убеждающе оттеняет то «чистое, светлое и доброе начало», которое искони лежало в «основании натуры» Обломова. Он «остановился в росте нравственных сил», остался почти инфантильным в своей всегдашней готовности ощетиниться и беззащитности в жизни — но если простодушная вдова, неспособная к фантазии, увидела и полюбила «природное золото» Ильи Ильича, значит, оно не фальшивое.
Уже в старой критике было замечено, что все так или иначе любят Илью Ильича, тянутся к нему[20]. Конечно, привязанность Захара и любовь Ольги, дружеское участие Штольца и странная прилипчивость безликого Алексеева — все это разные отношения. Но что-то сводит их всех у дивана пропащего человека, что-то общее, что, исходя от этого человека, одинаково отзывается в их душах.
Самый дисциплинированно мыслящий из них Штольц не раз пытается точно и однозначно определить смысл того обаяния личности Ильи Ильича, которое так неотразимо сообщается всякому непредубежденному читателю. Да, и «кротость», и «честность», и «мягкость» беспредельная, и «нежность» — трудно в самом деле схватить, закрепить в немногих словах привлекательное в характере героя, чья судьба по собственной его вине столь печальна. Впрочем, определения Штольца неполны еще и потому, что ему заведомо не осознать вполне чуждой и, быть может, главной ценности в духовном облике друга.
В одной из интересных и наиболее тонких интерпретаций романа замечено между прочим: «Обломов не дает нам впечатления пошлости. В нем нет самодовольства, этого главного признака пошлости»[21]. В самом деле, запросы и мысль Обломова гораздо шире, значительнее, интенсивнее, чем об этом могут сказать его сонные глаза, из которых «так и выглядывает паралич». В его честолюбивых «стремлениях» послужить государству, в намерениях благоустроить крестьян, в «горьких» и потаенных слезах о «бедствиях человеческих», в мечтаниях о великом подвиге силы или ума было не только смешное, хоть это внешне напоминало сентиментальное жеманство. Лишь ближайший друг знал «о способностях его, об этой внутренней вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца». И оттого что весь «волканизм» не в силах вылиться в жизнь, в поступки, духовное самочувствие Обломова отравлено хоть и вялым, но неотступным и глубоко искренним самонедовольством, сосущей тоской о счастье и сознанием, что его бессмысленное существование не заслуживает подлинного счастья.