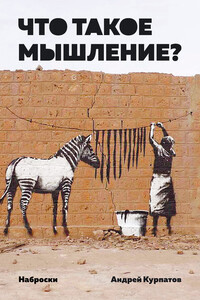Пространство мышления. Соображения | страница 121
Можно сказать, что мы имеем здесь дело с эффектом, вызванным тем особым типом речевого поведения, которое некоторые исследователи проблемы сознания называют исповедничеством (professing). Несмотря на то что они используют данное понятие в основном применительно к религиозным убеждениям, мы вполне можем считать этот эффект универсальным свойством повседневного языка[101]. И в случаях такого рода означивания «реального» мы неизбежно сталкиваемся с тем, что Витгенштейн называл «hinge propositions» (опорные предложения), то есть с такого рода утверждениями, в пользу истинности или ложности которых уже не могут быть приведены никакие основания. Точнее, истинность утверждений, приводимых в качестве таковых, ни в коей мере не является более очевидной, чем истинность утверждений, которые ими обосновываются: «My having two hands is, in normal circumstances, as certain as anything that I could produce in evidence for it» (То, что у меня две руки, при нормальных обстоятельствах столь же верно, как и все, чем бы я мог засвидетельствовать это)[102]. Витгенштейн отмечает, что было бы, к примеру, в высшей степени нерелевантным ссылаться на существование других планет в качестве доказательства существования внешнего мира[103].
Казалось бы, что именно философия по преимуществу должна заниматься выявлением подобных «парадоксов» и «слабых мест» повседневного (существенным образом дискурсивного) мышления. Однако, как только философия перестает быть последовательной критикой языка (к чему, собственно, так страстно и призывал Витгенштейн), то многие философские тексты сами немедленно превращаются в наглядные примеры производимого эффекта исповедничества: кажется, что заявляемый в начале исследования тезис, вроде бы, обосновывается так, как если бы он был теоремой, но на деле он лишь незаметно расширяет аксиоматику, из которой уже и так видит мир философ. Таким образом, изначальный вброс тезиса в языковую игру просто создает условия для того, чтобы весь остальной текст мог быть вообще прочитан и понят. Вот лишь некоторые примеры: «власть – это дар» (Бодрийяр); «всякое сущее, разделенное внутри себя на материю и форму, с необходимостью должно двигаться» (Аристотель); «красота "здесь” тождественна истине "там”» (Платон); «само бытие в своей явленности подражает тому, как небытие отсутствует» (Секацкий) и т. д. И мы не должны удивляться такому положению дел – ведь как замечает все тот же А. К. Секацкий: «Ответственность нужна в поле морального утешения или проповеди. А философ обязан быть безответственным. Иначе мы окажемся в пределах банальности, и ничего хорошего из этого не выйдет. Философия не должна бояться смутить малых сих».