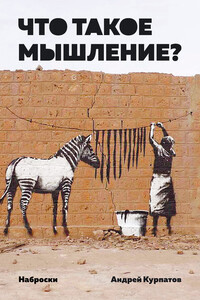Пространство мышления. Соображения | страница 120
Другими словами, сущностная иллюзия понятности чего бы то ни было наличествует у нас естественным образом до тех пор, пока в сознании не будет каким-то образом представлена информация о непонятности, что, к примеру, и происходит, когда кто-то впервые обращается к нам с вопросом. И наш ответ, кажущийся нам всего лишь реконструкцией и без того имевшегося в нашем сознании понятия (мысли), есть его (ее) конструкция. Читатель «Пространства мышления» безусловно замечает, что даже с обращенными к нам вопросами все обстоит не так просто (уж очень нам хочется продолжать экономить на мышлении[99]) – и А. В. Курпатов скрупулезно анализирует психические механизмы, которые данные трудности создают, а также разрабатывает ряд нетривиальных методологических приемов, способных заставить нас последовательно и системно сомневаться в кажущихся несомненностях нашего рассудка, и, подобно рассмотренному нами выше трюку с кружками, разглядеть его (рассудка) «слепые пятна»[100].
Здесь важно, что субъект поведения при попытке формирования и исполнения коммуникативного акта сталкивается с проблемой, аналогичной той, что стоит и перед наблюдателем. Только лишь требования коммуникации вынуждают субъекта делать категориальный выбор, что с необходимостью будет вызывать искажения. Происхождение таких искажений абсолютно идентично искажению, имеющему место при выборе ответа в плохо составленном тесте, который не предусматривает ответа «ничто из перечисленного», и поэтому мы вынуждены выбрать наименее худший ответ. Этолог Д. Макфарланд называет такую деятельность аппроксимирующей фантазией, указывая тем самым на то, что субъект, будучи вынужден как-то именовать свои смутные тенденции и импульсы, неизбежно выражает их так, как если бы они всегда представлялись сознанию не поведенческими склонностями, результирующими многообразие возможных вариантов, а четкими схемами действий и ясно поставленными целями. И поскольку выражающий свои мысли является одновременно и их слушателем, то его собственная речь может оказывать на него некий суггестивный эффект, убеждающий его самого в том, что он всегда был мотивирован именно этими однозначными и четко структурированными целями. Таким образом, поскольку проблема коммуникации никогда не ставилась как проблема четкого различения истины и лжи, а решение преследовало изначально амбивалентные цели самосохранения и сотрудничества, то обращение к созданному таким путем «интерфейсу пользователя» оказывается не самым надежным, когда дело касается разыскания истины.