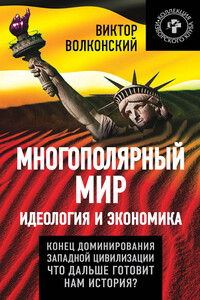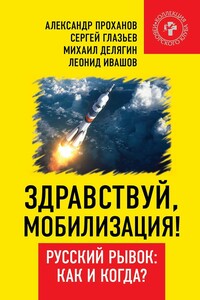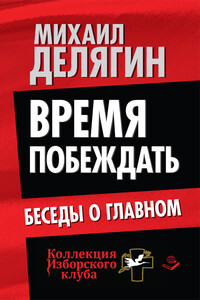Глобальные элиты в схватке с Россией | страница 68
Можно назвать точное время и место, когда и где впервые были высказаны идеи о послевоенном обустройстве Западной Европы, в том числе и о том, кто и как будет осуществлять текущее управление континентом. Это произошло в период с 10 по 22 января 1943 года в ходе встреч Черчилля и Рузвельта в Касабланке. Позднее оба англосаксонских лидера продолжили развивать тему на личных встречах и в широко известной переписке. В упрощенном изложении их взгляды можно было бы свести к следующему: будущее устройство старого света им представлялось в виде некоего доминиона, в котором США осуществляли бы общеполитическое и экономическое руководство, при этом британский опыт колониального администрирования пришелся бы весьма кстати. Самим европейцам такая схема предлагала «изображать независимое самоуправление». Предоставить им какую-либо политическую самостоятельность, с точки зрения США, было бы ошибкой, поскольку без «отеческого пригляда» из-за океана очень скоро началась бы новая война, как это уже дважды случалось в XX веке.
На тот период у западной «двойки» не было четкого представления о кадровом резерве политиков общеевропейского уровня – лишь весьма общее понимание того, как использовать деятелей эмиграции и разных «правительств в изгнании» (в этой части англосаксы откровенно завидовали И. В. Сталину: у «вождя народов» для Восточной Европы имелась весьма длинная скамейка управленцев, начиная от общенационального и вплоть до муниципального уровней, в основном оставшаяся от распущенного в 1942 году Коминтерна). После смерти Ф. Рузвельта его преемник Г. Трумэн достаточно скоро избавился как от команды предшественника, так и от его сантиментов в отношении СССР, и лично взялся курировать кадровые вопросы для послевоенной Европы. Главными помощниками в этом были госсекретарь Дин Ачесон и автор знаменитого плана восстановления лежавшего в руинах континента генерал Джордж Маршалл.
В самой же Европе сторонников будущего «доминиона» было совсем немного. Конечно, большинство жителей истерзанного войной континента приветствовало политическую интеграцию как гарантию от новых войн и было искренне благодарно США за помощь в восстановлении нормальной жизни. Однако перспектива перманентного «внешнего управления» в силу, якобы, недееспособности европейцев вызывала отторжение как у национальных элит, так и у большинства населения.
Наиболее последовательными приверженцами самостоятельного европейского пути были выходцы из левой части политического спектра: социалисты, социал-демократы, христианские социалисты. Их репутация во время войны и в т. ч. сопротивления заслуженно укрепилась. Этому в немалой степени способствовало и сотрудничество «в поле» с коммунистами, авторитет которых после общей победы достиг наивысшей точки. Вдобавок у левых почти чудом сохранился и объединительный орган – Социнтерн. Были, конечно, у европейских левых и уязвимые точки: с одной стороны их откровенно не любили в Штатах за, якобы, излишнюю близость к коммунистам, а с другой – им не благоволил и, тем более, не поддерживал тов. Сталин.