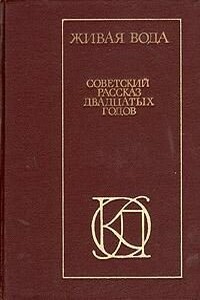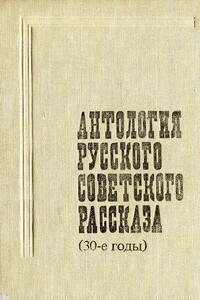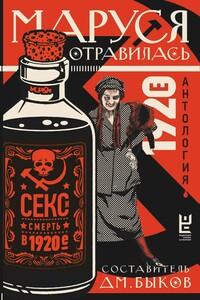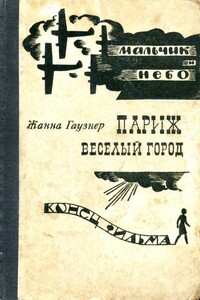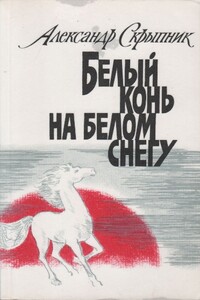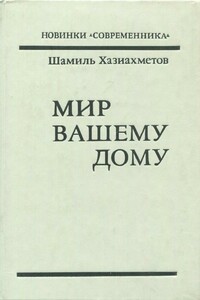Советский русский рассказ 20-х годов | страница 4
Но литература 20-х годов не только позволяла себе думать и сомневаться. Она предупреждала. Она провидела, например, в «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка страшные и столь трудно объяснимые отступничество одних, роковые ошибки и беспомощность тех, кто ранее был мужествен, решителен и мудр, тайный и зловещий умысел других — прославленных своей кристальной репутацией. «Исходящая 37» Л. Лунца и особенно «Дьяволиада» Булгакова говорят о культе бумаги, о бюрократии (об этом же и «исторический» рассказ Ю. Тынянова «Подпоручик Киже»). Сколь многие, оказывается, думали тогда об этой в ту пору младенческой опасности!.. Раньше прежде всего приходили на память строки Маяковского. Его «Прозаседавшиеся». Ленин был в восторге от этого стихотворения. Маяковский блистательно бичует бюрократическую лжедеятельность. Но у него бюрократическое чудо-юдо столь уродливо и столь наглядно, что, думается, с ним можно справиться, кажется, что его можно «убить» смехом. Булгаков же, разыгрывая бюрократическую фантасмагорию, исходит из того, что смешная «формалистика» очень быстро превращается в силу страшную. Начинает казаться, что некто всесильный и равнодушный или злокозненный действует поверх людей и за их спинами. И сами люди не могут, не успевают осознать свои поступки, своей суетливой торопливости, безумной исполнительности, своего гончего азарта… Да, страшная у Булгакова формалистика, так что уже не до смеха. Погибает преследуемый «дьявольщиной» булгаковский Коротков.
Горьковский «Отшельник», «Верность» Пильняка, «Пещера» Замятина — это все о человеке, о том, что, как ни складываются обстоятельства, всякий отсчет, всякая мера начинаются с того, добр он или нет, верен или нет, может превратиться в зверя или найдет в себе силы остановиться на краю бездны. И эти страницы заставляют лишний раз и все с большей приверженностью вслушиваться в программные максимы «нового мышления», и именно в ту мысль, что общечеловеческие интересы должны всегда оставаться во главе угла, должны быть выше временных и групповых стремлений.
Когда в последние два-три года стали появляться в печати произведения забытые, «запретные», произведения писателей, насильственно вычеркнутых из литературы, из жизни (многие из них как раз и дебютировали в нашем искусстве в двадцатые годы), когда именно к этим писателям обратилось преимущественное общественное внимание, в прессе, в некоторых аудиториях заявили о себе опасения такого рода: не нанесет ли это ущерба признанным авторитетам, не возникнет ли искаженное представление о литературе прошлых лет? В нашем издании наряду с другими — публикуются Горький, Леонов, очень известные «донские» рассказы Шолохова. И что же — разве они что-то теряют от соседства с Замятиным, Грином, Платоновым? Нет, истинный талант не боится сравнения, а его откровения и мотивы, повторенные пусть на уровне отзвука в произведениях современников, от этого звучат только резче и убедительней.