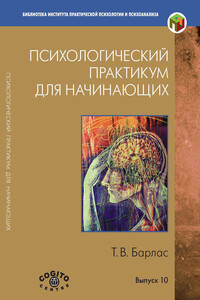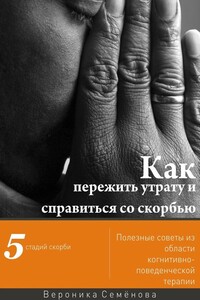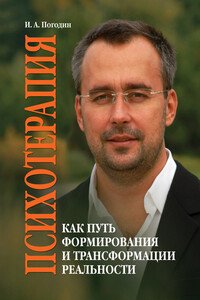Терапия пустого усилия. Когнитивно-ориентированный подход к быстрому облегчению душевной боли | страница 65
Не секрет, зачастую бывает так, что грамотнейший психотерапевт в своей собственной жизни делает массу ошибок. Мы знаем, что в жизни блестящие, уважаемые коллегами и пациентами, психотерапевты сплошь и рядом отнюдь не являют собой образцы жизненной успешности в общепринятом смысле этого слова. И это вовсе не потому, что такой психотерапевт является «сапожником без сапог». Дело в том, что задача психотерапевта состоит вовсе не в том, чтобы грамотно руководить пациентом, уберегая его от ошибок и вырабатывать «правильную» стратегию поведения. Его задача в другом – помочь пациенту осознать то, что мешает ему чувствовать себя свободным, то, что мешает ему делать самостоятельный выбор. Осознать то, что «незаконным» образом блокирует его, держит в зажиме… То есть помочь пациенту стать самим собой, ощутить собственную природу, собственные потребности, собственную правду, собственную спонтанность. Помочь пациенту испытать «мир в душе». То есть помочь тому, чему мешают, прежде всего, пустые усилия. Когда удается это сделать, у пациента сами собой рождаются свои решения, и внешние советы (даже советы психотерапевта) ему больше не нужны. Для человека, который чувствует себя самим собой, возможные ошибки больше не страшны, если они закономерно вытекают из его собственной природы. Это тогда, внутренне, уже не ошибки, это закономерная часть жизни, воспринимаемая легко и спокойно.
Но если запрос пациента вытекает из естественной эмоциональной реакции, то с ощущением собственной внутренней природы и с «миром в душе» у него все в порядке. Если же запрос вытекает из непродуктивно–естественной эмоциональной реакции, то «мира в душе» нет, человек в конфликте с самим собой, но считает этот конфликт необходимым и это отсутствие внутреннего мира нужным и полезным.
В связи с естественными негативными реакциями мне хочется вспомнить одну буддийскую историю. Был такой китайский мастер дзен, которого звали Хакуин. В молодости он был свидетелем того, как солдаты напали на монастырь и жестоко расправлялись с монахами. Он видел и слышал, как его старый учитель от страха и боли кричал так, что его было слышно на несколько километров вокруг. Хакуин тогда сильно разочаровался в буддийском учении. Он не мог понять, как просветленный учитель может так страдать. Ведь буддийское просветление – есть освобождение от страданий. Он решил, что учение – обман. И только позднее он понял, что страдание, которое испытывал старый монах, может никак не противоречить высшему духовному состоянию. Дело в том, что учитель кричал искренне, целостно, всей душой, он не был при этом расколот внутри себя. В его крике не было страдания по поводу собственного страдания. Он не гнал от себя свою боль, как не имеющую права быть. В этом смысле в его переживании не было двойственности, не было душевного раскола. Не было у него и раскола с миром, как целым. Было противостояние между ним и мучителями, но не было противостояния между ним и миром как таковым. Крича, он относился к своему страданию как к закономерной части бытия. И такой же закономерной частью мироустройства были для него те, кто это страдание причинял. В целом мире эти явления (как и все другие) были взаимозависимы и имели равное право на существование. И в этом смысле в его переживании тоже не было двойственности, конфликта. Негативные естественные эмоции как раз таковы. Несмотря на душевную боль, здесь нет разлада с самим собой и разлада с миром как с целым. Это душевная боль с миром в душе, с миром с собой.