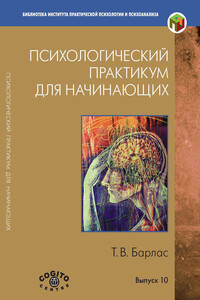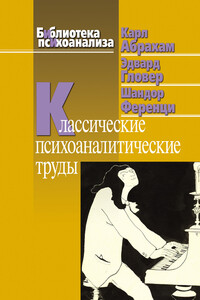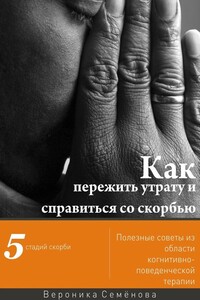Терапия пустого усилия. Когнитивно-ориентированный подход к быстрому облегчению душевной боли | страница 64
Что касается первого запроса, стремление разделить переживания с психотерапевтом и тем самым получить эмоциональную поддержку характерно для давних пациентов, которые видят в терапевте не только специалиста, но и хорошо понимающего и, по сути, близкого им человека. Но в принципе, такую помощь пациент мог бы получить и от близкого друга, если бы таковой имелся.
Второй запрос, связанный с естественными негативными реакциями, по сути дела, связан с детской верой пациента в психологическую науку, якобы знающую ответы на все вопросы, касающиеся человеческих взаимоотношений. Тогда обращаются с единственной и конкретной целью: получить информацию. Как правило, это информация про то, как повлиять на другого человека: на супруга (супругу), начальника, ребенка. Реже – на себя самого. К психотерапевту тут обращаются примерно также, как обращаются к юристу или в информационное бюро. Тогда стремятся получить конкретные рекомендации, инструкции, как в спортзале, на курсах кройки и шитья или в автошколе. И, если такой клиент не получает четких инструкций, он уходит с раздражением и неудовольствием, что зря потратил время.
Представим, что к вам на прием приходит женщина в бракоразводной ситуации и просит вас объяснить ей, что она должна сделать, чтобы вернуть мужа в семью. Эмоции ее субъективно совершенно естественны – она искренне, всем сердцем негодует и хочет сохранить семью. И спрашивает, как ей вести себя сейчас так, чтобы не наделать ошибок? У нее конфликт с мужем, но не с самой собой. Она борется за свою семью и беседа с психотерапевтом – это одна из стратегий этой борьбы. То, чего ей нужно – это знания, технологии. Удовлетворить такой запрос мы, по сути, не можем. Как специалист, вы можете привести какие-либо данные статистики, у вас имеющиеся. Вы можете поделиться с пациентом психологическими и психопатологическими знаниями, которыми владеете, но их явно не хватит для четких конкретных рекомендаций. В этой ситуации нужно отдавать себе отчет в том, что наши профессиональные знания никак не помогут нам учесть все нюансы ситуации пациента. Всякая жизненная ситуация уникальна: в ней участвуют уникальные люди с уникальными отношениями между собой. Мы просто не в состоянии учесть все эти особенности, тем более, если в вашем распоряжении имеется лишь пациентская версия событий. Если в этой ситуации вам приходят в голову какие-то «решения», вы можете предложить их пациенту только в качестве «вероятностно возможных», скорее в качестве собственного человеческого, и ни в коем случае не профессионального совета, в качестве «свежего взгляда со стороны». Психотерапевт не может играть роль специалиста, знающего «как надо жить». Поэтому не дело специалиста давать здесь какие-то конкретные советы и рекомендации. Не дело психотерапевта (и уж во всяком случае, не дело терапии пустого усилия) учить пациента как надо жить, а как не надо. А при естественных и непродуктивно–естественных негативных эмоциях часто просят именно это.