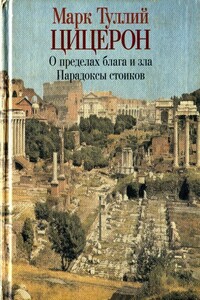Философские трактаты | страница 22
Важно отметить и еще один нюанс. В этом диалоге во второй книге речь держит сам Цицерон. Он говорит от своего лица и почти не ссылается при этом на источники, из чего можно заключить, что Цицерон здесь выражает в основном свое собственное мнение. Но источниками он, разумеется, пользуется, их — если говорить о главных — два: Карнеад (в изложении Клитомаха), когда-то опровергавший стоическую мантику (I, 7), и Панетий — единственный из стоиков, не веривший в дивинацию (II, 87).
Для первой книги, где речь в защиту дивинации ведет брат Цицерона Квинт, использовано значительно большее число источников, в основном стоических: Хрисипп, Антипатр, Диоген Вавилонский, Посидоний, Использованы сочинения перипатетика Кратиппа, платоника Гераклида Понтийского, историков Калисфена, Фабия Пиктора, Целия, Филиста и др. Вообще речь Квинта не без умысла (II, 27) составлена почти из одних только литературных примеров, и в ней почти полностью отсутствуют доказательства. В речи Туллия доказательства явно преобладают над примерами. Уже самой пропорцией примеров и аргументов обеспечивается победа противника дивинации над ее защитником.
В тексте трактата по меньшей мере трижды встречается определение дивинации. В самом начале дивинация (по-гречески — мантика) определяется как «предчувствие и знание будущих событий» (praesentio et scientia rerum futurarum) (I, 1). Но потом, после того как Цицерон вместе с Квинтом убеждаются, что существуют иные виды предзнания будущего, помимо дивинации, такие, как научное предвидение, предвидение врачей, политиков, кормчих и т. п., дается другое определение: дивинация — это предсказание и предчувствие будущих случайных событий (I, 9). В речи Туллия это определение повторяется еще раз (II, 13). Однако на протяжении всего трактата под дивинацией понимаемся прежде всего угадывание, гадание.
Дивинация делится на два вида: естественную и искусственную. К первой относятся вещие сны и снотолкование, а также экстатические прорицания и их толкования. Ко второй — искусство авгуров, гаруспиков, гадателей по жребию и другим знакам и приметам.
В обоснование оправданности всего этого, помимо примеров, Квинт выдвигает несколько довольно слабых аргументов. Они таковы. Предчувствие и предугадывание будущего некоторыми людьми, даже невежественными, — это факт и факт не случайный, пусть даже мы не знаем его причины. То, что не все предсказанное гадателями сбывается, не упраздняет дивинацию, так как прогнозы врачей тоже не всегда сбываются, но это не подвергает сомнению медицину. Дивинация основана на опыте, на обобщении наблюдений многих поколений людей за приметами и знаками, предваряющими события. Она основана также на природе самой души человека, ибо, когда душа освобождается от своей заботы о теле — во сне или в экстазе, — она становится способной видеть то, что обремененная телом видеть не может: мировую цепь бытия — прошлого, настоящего и будущего, звеном которой она сама является. Душа человеческая — часть и порождение мировой души. Во сне и экстазе она как бы возвращается к своему источнику и через контакт с мировой душой, заключающей в себе все возможное знание, узнает о будущем. Кроме того, если есть боги, то есть и дивинация. Ибо, так как боги благи и поэтому заботятся о людях, они должны давать людям знаки и способность предвидения будущего. Наконец, в пользу дивинации говорит общераспространенность и древность этого явления, высокий авторитет тех, кто ее признавал и ею пользовался (цари, полководцы, герои, законодатели, поэты), и одобрение ее большинством великих древних философов, за исключением разве что «ничтожного» и «аморального» Эпикура. В конце речи Квинт, следуя Посидонию, приводит также и главные источники дивинации: она происходит либо от бога, либо от природы, либо от судьбы. Признание судьбы делает неизбежным и признание дивинации, ибо судьба это такое сцепление причин, когда в предыдущей причине заключаются все последующие, поэтому «если мог бы найтись такой смертный, который мог бы духом своим обозреть всю цепь причин (colligatio causarum), то он не мог бы ни в чем ошибаться» (I, 127). Это место из первой книги трактата «О дивинации» почти буквально совпадает со знаменитой формулировкой лапласовского детерминизма.