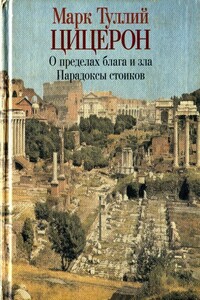Философские трактаты | страница 21
Диалог «О дивинации» написан Цицероном в первой половине 44 г. до н. э. в двух книгах. Причем первая его книга в большей своей части была подготовлена незадолго до убийства Цезаря, вторая — после. То, что две эти книги разделены «мартовскими идами», отразилось и на их содержании. Во вступлении к первой книге Цицерон старается всячески оградить себя от обвинения в атеизме и даже — если это все-таки не христианская вставка — считает себя обязанным объяснить почему он в предыдущем трактате сделал антирелигиозную речь Котты столь убедительной, хотя сам в конце неожиданно присоединился к позиции Бальба (I, 8—9). Зато во второй книге тон его рассуждений становится даже еще более дерзким и ироническим по отношению к теологии, чем в речах Котты. Цицерон доходит до того, что осмеливается ставить под сомнение не только философскую теологию, но и обряды римской государственной религии (II, 41, 70, 71, 111—112), в верности которым он уверял нас в трактате «О природе богов». Он, правда, не предлагает, отменить государственный религиозный культ и отказаться от практики гаруспиций и ауспиций. Нет, он даже призывает распространять, поддерживать и «пропагандировать» религию (religio propaganda) (II, 149). Но все эти призывы почти полностью обесцениваются несколькими многозначительными признаниями. Из одного из них («но тут мы одни и можем не бояться» — II, 28) явствует, что не только уважение к традиции, которое в этой книге временами тоже колеблется (II, 70), но обыкновенный страх перед наказанием руководит Цицероном в его оценках отечественной религии. Из другого признания для нас становится понятным, что в своем самом внутреннем и прежде тщательно скрываемом отношении к религии Цицерон, как и во многом другом, — предшественник Вольтера: сразу же после высмеивания древнего обряда ауспиций и слов: «Древность ошибалась во многих вещах, на которые мы теперь смотрим по-другому» — Цицерон пишет: «При всем том, учитывая воззрения простого народа и в коренных интересах государства, необходимо поддерживать и обычаи (mores), и религию, и учения и права авгуров, и авторитет их коллегии» (II, 70). А чуть ниже он добавляет, что обычай гадания по молниям (вид ауспиций) нужен был римскому государству, чтобы под благовидным предлогом созывать народное собрание только тогда, когда это нужно правителям (II, 73). Вот это признание! Значит, государственная религия римлян нужна только для политического манипулирования? Только для сдерживания невежественного простонародья? Поистине в таких заявлениях Цицерона слышится голос Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Таковы некоторые нюансы цицероновского отношения к религии, выявляющиеся в трактате «О дивинации».