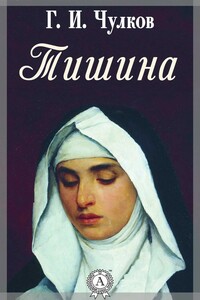Метель | страница 22
— Дело-с ясно, — сказал Паучинский самодовольно. — Все без исключения склонны или к садизму, или к мазохизму, но, к несчастью, не все сознают в себе соответствующие стремления. Одни созданы для того, чтобы совершать некоторое так сказать насилие в жизни, другие, напротив, предуготовлены к тому, чтобы пассивно этому насилию подчиняться. И в том, и в другом есть особая радость, наслаждение и удовлетворение. Но вот, в силу исторического недоразумения, садисты стыдятся своих натуральных желаний, а мазохисты не хотят сознаться в своем предназначении, которое одно только и могло бы их удовлетворить. Моя программа заключается в том, чтобы каждый признался самому себе с откровенностью, к чему у него лежит сердце. Тогда все окажутся на своих местах и восторжествует самая настоящая справедливость: и насильники, и жертвы будут блаженствовать, не отказываясь от своей природы. Разве это неразумно? Разве это непоследовательно?
— И это называется теорией морального равновесия?
— Вот именно.
— Так, значит, вы это серьезно? Сусликов точно изложил?
— Филипп Ефимович — человек не без тонкости.
— Во всяком случае вы поймете друг друга, — пробормотал князь.
— Вот именно.
Паучинский еще раз поклонился и взялся за ручку двери.
— А почему вы мне сегодня про этих Брейгелевскнх «Слепых» рассказали? — крикнул сердито князь.
— Без всякой тенденции, — развел руками Паучинский. — Неужели вы во мне, князь, бескорыстного эстетизма не допускаете? Ну, а если вам хочется непременно в этой картине увидеть символ, то ведь все равно его словами не изъяснишь. На то он и символ, чтобы намекнуть на нечто несказанное. Я так понимаю. А если вы не побрезгуете грубой аллегорией, князь, все человечество, пока моей моральной теории не примет, будет находиться в положении Брейгелевских слепых. Я в этом уверен и вовсе не шучу.
Князь откровенно рассмеялся:
— Я вижу, что вы серьезно. И вы, оказывается, моралист! Что ж! Ваша теория не хуже многих иных.
— Лучше! Несравненно-с лучше! — откликнулся Паучинский и тотчас же скрылся за дверью.
VIII
Роман князя Нерадова и всех вокруг него толпившихся людей был воистину петербургским романом. Ни людей таких, ни столкновений в другом городе и быть не могло. Князя и представить себе иначе нельзя, как в нашем желтом тумане. А если бы он перебрался в Москву, например, то и переменился бы тотчас же, как это, по моим наблюдениям, случается постоянно с теми, которые бегут прочь от заколдованной Невы, Медного Всадника и белой весны нашей.