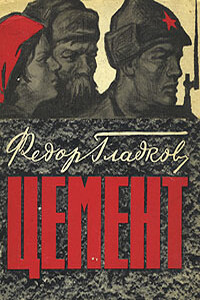Повесть о детстве | страница 27
Катерина вяжет чулок из толстой шерсти и, не отрывая глаз от блещущих спиц, с наигранной кротостью говорит:
— А ты-то вот чего, тятенька, такой кукишный уродился? Мамка-то выше тебя на две головы.
И ехидно склоняется над вязаньем.
Она кажется мне тяжеловесной и горбатой: спина упруго выгибается, коса лежит на спине, как змея. Дед блаженно дремлет. Он лежит на лавке, тощенький, жилистый, крепко сбитый, в коричневой домотканой рубахе и в синих набойных портках. Голова его серебрится на коленях у бабушки, а борода расстилается по ее китайке и кажется зеленой.
Я жду, что от этого непочтительного вопроса Катерины дед вскочит, завизжит, затопает ногами, схватит жгут, который огромным серым червяком лежит в его ногах, и бросится на нее: он ведь не терпит никаких возражений и никаких вопросов. То, что изрекает он, — это неоспоримо и священно.
Но по разомлевшему лицу бабушки и по выжидательной, спокойной усмешке Кати видно, что дед будет лежать расслабленный и укрощенный. Он только бормочет невнятно:
— Дура ты. Рази можно так говорить с отцом? В кого ты такая уродилась?
— Вся в тебя, тятенька: и смирением, и лепотой, и благочестием.
— Ка-атька-а! — осудительно поет бабушка, но от смеха брови ее ползут на сморщенный лоб. Ей и страшно, и нравится эта опасная игра Катерины. Ка-атька, чего ты мелешь, мельница!
— Порол я тебя мало… мало порол… — ворчит дед, но голос его не страшен.
Мне было всегда любопытно смотреть на Катю, которая не боялась деда и братьев, и даже моего отца. Я был уверен, что она весела и бодра, и ходит как уверенная хозяйка, и посмеивается, и покрикивает, и ехидничает, и поет песни только потому, что обладает какой-то сверхъестественной силой, как девица-поляница, о которой певуче рассказывала мне бабушка, когда мы с ней по вечерам лежали на печи.
— Мало тебя пороли… — дремотно бормочет дед. — Ежели бы по-доброму драли космы, ты была бы девка как девка — в страхе жила бы, дышать бы не смела. Наш грех, Анна… за это с нас спросится на Страшном суде. Развернет ангел книгу, ткнет пальцем и возопиет: «А ну-ка, рабы божьи, грешницы нечестивые, как вы дщерь свою уму-разуму учили? Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его».
Бабушка смущена и подавлена зловещими словами деда: она молча смотрит на седую его голову, и руки ее слабеют.
А Катя ухмыляется, не отрывая глаз от вязанья, и притворяется испуганной. Она елейно вторит деду:
— А я, тятенька, выйду и скажу ангелю: «Ангель божий, милый, ты же сам видишь, неповинны они, тятенька с маменькой: ничего они со мной поделать не смогли. Тятенька со всей душой драл бы меня как Сидорову козу, да я уж больно отчаянная. Не раз было, ангель божий, когда я у тятеньки кнут вырывала, а его самого брала за плечики и к переднему углу подводила и кричала ему: «Молись богу, тятенька, уходи от греха!» — он только бегает да портками трясет…» Ангель божий тогда с улыбочкой поглядит, голоску золотую свою почешет и скажет: «Да шут с ними совсем! Пускай они, господи, идут в рай: все едино от них толку никакого не добьешься…»