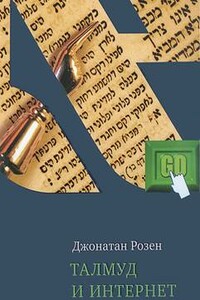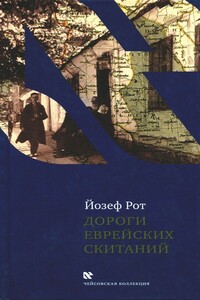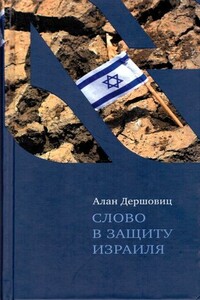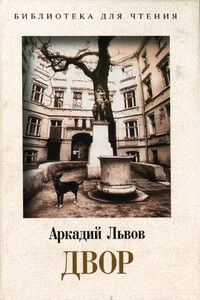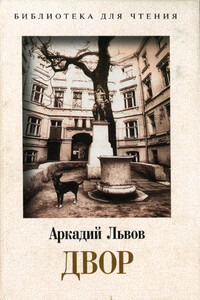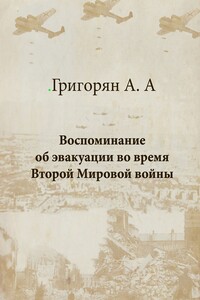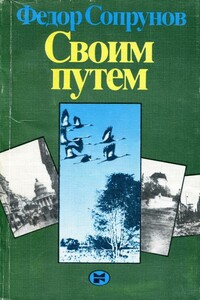Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 79
Теперь уже не казалось, — теперь Осип Эмильевич Мандельштам был в самом деле безумен: страшась отравы, он сам обрекал себя на смерть. На голодную смерть.
Но разве безумец во всем безумен? Разве «я», которое всю жизнь было его «я», замещается другим, не его «я»? Нет, никакого нового «я» нет: за крайностями безумия всегда жива, всегда бодрствует душа того, первозданного Я, которое дано человеку от рождения.
Пересохшими, потрескавшимися губами Ося торопливо вышептывал:
Укутавшись в одеяло, чтоб ни щелки света — ни щелки! — Ося бормотал:
И еще, еще укутываясь, — ах, Боже мой, они же везде, они же повсюду, и под одеяло, под одеяло:
Нет, они не могут все, они не могут — и для Осеньки, для мальчика, для старичка-мальчика, есть местечко, есть:
Тоска, Господи, огромная, во все пределы, сотворенные Тобою!
«Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла» (Псалмы, 104:15).
Тоска, Господи: «Иосиф, проданный в Египет, / Не мог сильнее тосковать!»
Боюсь Тебя, Адонаи!
Господи, я — Иосиф, наречен отцом нашим, Израилем. Я пойду, извещу фараона и скажу ему: «Братья мои и дом отца моего… пришли ко мне»…
27 декабря 1938 года не стало Осипа Мандельштама.
Закатилось солнце русской поэзии.
Восемнадцать лет спустя, 29 августа 1956 года, на специальном заседании, суд постановил: «Дело Мандельштама О. Э. прекратить за отсутствием состава преступления». С того света — ну сами скажите: так можно было такого еврея терпеть среди нас! — затрещал Ося своими костьми: «Судопроизводство еще не закончено и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра!..»
Интимная полутайна
Б. Пастернак
«Тебе, Лялюша, придется, может, анкету там заполнить… так ты запиши мои паспортные данные».
Он — он: Борис Леонидович Пастернак — продиктовал Ольге Ивинской, что нужно, но, когда зашла речь о национальности, «несколько замешкался и затем пробормотал:
— Национальность смешанная, так и запиши».
Представляете себе, каковы были бы советские картотеки, как бы приходилось вертеться-крутиться начальникам кадров, если бы каждый гражданин СССР, на манер поэта Бориса Пастернака, у которого папа был одесский еврей Леонид Осипович Пастернак, а мама была одесская еврейка Розалия Исидоровна Кауфман, писал в своем личном деле, что национальность у него «смешанная», точь-в-точь как поют одесские уличные дети: «Я на улице росла — меня курочка снесла».